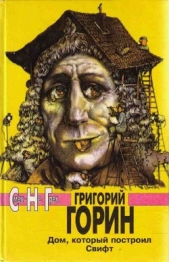Картины Италии

Картины Италии читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он посмотрел мне прямо в лицо и, видя, что я пожалел его, взял понюшку табаку (всякий чичероне нюхает табак) и отвесил полупоклон; частью извиняясь за то, что заговорил о подобном предмете, частью, вероятно, в память детей и в честь своего излюбленного святого. Это был совершенно естественный полупоклон, быть может самый естественный, какой когда-либо отвешивал человек. И тотчас же вслед за этим он снова снял шляпу, приглашая меня пройти к следующему надгробию, и его глаза и зубы засверкали еще ослепительнее, чем прежде.
Через Болонью и Феррару
На кладбище, где маленький чичероне схоронил своих пятерых детей, наблюдал за порядком настолько щеголеватый чиновник, что когда тот же маленький чичероне намекнул мне шепотом об уместности отблагодарить это должностное лицо за некоторые мелкие услуги, оказанные им нам из чистой любезности, парою паоло (около десяти пенсов на английские деньги), я с сомнением посмотрел на его треуголку, замшевые перчатки, хорошо сшитую форму и сияющие пуговицы и, укоризненно взглянув на маленького чичероне, отрицательно покачал головой. Ведь он блистал по меньшей мере таким же великолепием, как помощник жезлоносца палаты лордов, и мысль о том, что он может взять, по выражению Джереми Дидлера [63], «такую штучку, как десятипенсовик», показалась мне просто чудовищной. Тем не менее, когда я, набравшись решимости, вручил ему эту мелочь, он принял ее безо всякой обиды и снял свою треуголку таким великолепным жестом, что его не жаль было бы оплатить и вдвое дороже.
В его обязанности входило, по-видимому, показывать посетителям надгробные памятники, — во всяком случае он делал это. И, когда я сравнил его, подобно Гулливеру в Бробдингнеге «с учреждениями моей возлюбленной родины, я не мог удержаться от слез, порожденных во мне гордостью и восторгом». Он нисколько не торопился; он торопился не больше, чем черепаха. Он медленно брел вместе со всеми, чтобы посетители могли удовлетворить свое любопытство, и иногда даже давал им самим читать надписи на могильных камнях. Он не был ни жалок, ни дерзок, ни груб, ни невежествен. Он говорил на своем родном языке вполне правильно; он, казалось, считал себя учителем, поучающим народ, и относился с равным уважением как к самому себе, так и к народу. Вестминстерскому аббатству было бы столь же невозможно взять подобного человека на должность смотрителя, как решиться впускать безвозмездно народ (по примеру Болоньи) для обозрения памятников. [64]
И вот снова древний сумрачный город под сияющим небом, тяжелые аркады над тротуарами старых улиц и более легкие и веселые сводчатые проходы в новых кварталах. Снова темные громады храмов господних, снова — птицы, влетающие в щели между камнями и вылетающие из них, снова — оскалившиеся чудовища у оснований колонн. Снова богатые церкви, навевающие сон мессы, волнистый дымок ладана, образа, свечи, кружевные покровы на алтарях, статуи и искусственные цветы.
У города степенный, ученый вид, и он овеян какою-то милою грустью, которая выделяла бы его из множества других городов, даже если бы в памяти путешественника он не был отмечен, кроме того, двумя наклонными кирпичными башнями (сами по себе, надо признаться, они достаточно неприглядны); они склонились друг перед другом, словно обмениваясь чопорными поклонами, и весьма необычно замыкают перспективу нескольких узких улиц. Здания университета [65], церкви, дворцы и более всего Академия изящных искусств, где собрано множество интересных картин, главным образом кисти Гвидо, Доминикино и Лодовико Караччи [66] также обеспечивают этому городу особое место в памяти каждого побывавшего в нем. Но не будь здесь всего этого и ничего другого, способного вызвать воспоминания, и тогда большой меридиан на полу церкви San-Petronio, где солнечные лучи отмечают время посреди коленопреклоненных молящихся, придавал бы ему особую прелесть.
Так как Болонья была полна туристами, задержанными в ней наводнением, сделавшим дорогу во Флоренцию непроезжей, меня поместили в верхнем этаже гостиницы, в какой-то затерянной комнате, находить которую я так и не научился. В ней стояла кровать, достаточно просторная для целого школьного интерната, но заснуть на ней я все же не мог. Старший слуга, навещавший меня в этом уединенном убежище, где я был лишен всякою общества, кроме ласточек под широкой застрехой кровли, был человеком, одержимым одной идеей, некоторым образом связанной с Англией и англичанами, и предметом этой его безобидной мании был не кто иной, как лорд Байрон [67]. Я сделал это открытие совершенно случайно, заметив как-то за завтраком, что циновка, которой был застлан пол, весьма удобна в данное время года, на что он мне сейчас же ответил, что милор Бирон [68] также очень любил циновки этого сорта. Обнаружив в то же мгновение, что я не притронулся к молоку, он с восторгом воскликнул, что и милор Бирон никогда не притрагивался к нему. Сначала я по наивности подумал, что он был одним из слуг Бирона; но нет, он сказал, что не был его слугою, но что ему свойственно обыкновение говорить о милоре с заезжими англичанами. Вот и все. По его словам, он знал о Байроне решительно все. В подтверждение этого он упоминал о нем при всяком удобном случае, начиная с вина из Монте Пульчано, поданного им за обедом (этот сорт лозы рос в имении, принадлежавшем Байрону), и кончая пресловутой большой кроватью, бывшей якобы точным подобием кровати милора. Когда я уезжал из гостиницы, он присовокупил к своему прощальному поклону на гостиничном дворе напутственное уверение, что дорога, по которой я собирался ехать, была излюбленным местом верховых прогулок милора Бирона, и прежде чем копыта моих лошадей зацокали по мостовой, он торопливо стал подниматься но лестнице, наверное затем, чтобы сообщить еще какому-нибудь англичанину в еще какой-нибудь дальней комнате, что только что уехавший постоялец был вылитый лорд Бирон.
Я приехал в Болонью поздно, почти в полночь, и всю дорогу, после того как мы въехали в папские владения, которые, надо сказать, не так уж хорошо управляемы, поскольку ключи святого Петра [69] несколько заржавели, кучер был до того встревожен опасностью, якобы грозившей нам от разбойников при поездке после наступления темноты, и до того заразил своим страхом Бравого курьера, и они так часто останавливались и слезали с козел, чтобы взглянуть, цел ли привязанный на запятках сундук, что я готов был почувствовать почти признательность ко всякому, кто любезно согласился бы украсть его. После этого между нами было условлено, что, когда придет время покинуть Болонью, мы выедем из нее с таким расчетом, чтобы прибыть в Феррару не позднее восьми часов вечера; и это оказалась приятнейшая вечерняя поездка, хотя мы и ехали по совершенно плоской равнине, постепенно становившейся все более вязкой из-за разлива рек и ручьев, вздувшихся после недавних ливней.
На закате я прошел немного пешком, пока лошади отдыхали, и наткнулся на сцену, которая вызвала во мне необъяснимое, но всем нам знакомое ощущение, будто я это уже когда-то видел, и которую я до сих пор ясно вижу перед собой. В ней не было ничего примечательного. В кроваво-красном освещении печально поблескивала полоска воды, подернутая вечерней рябью; у краев ее было несколько деревьев. На переднем плане стояла группа притихших крестьянских девушек; опершись о перила мостика, они смотрели то в небо, то вниз, на воду; издалека доносился глухой гул колокола; на всем лежали тени наползающей ночи. Если бы в одном из моих прошлых существований [70] я был убит именно в этом месте, то и тогда я не мог бы вспомнить его отчетливее и с таким содроганием. И теперь воспоминание о реально виденном настолько подкреплено памятью воображения, что я вряд ли когда-нибудь забуду это место.