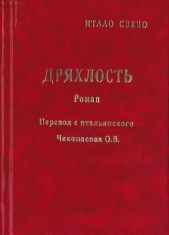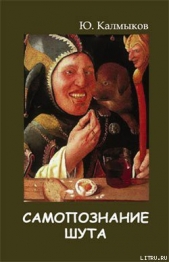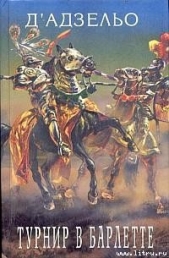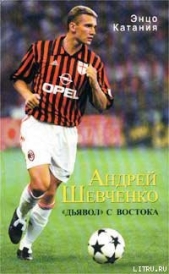Самопознание Дзено

Самопознание Дзено читать книгу онлайн
Один из восемнадцати детей коммерсанта Франческо Шмица, писатель принадлежал от рождения к миру австро-итальянской буржуазии Триеста, столь ярко изображенной в «Самопознании Дзено». Он воспринимался именно как мир, а не мирок; его горизонты казались чрезвычайно широкими благодаря широте торговых связей международного порта; в нем чтились традиции деловой предприимчивости, коммерческой добропорядочности, солидности… Это был тот самый мир, который Стефан Цвейг назвал в своих воспоминаниях «миром надежности», мир, где идеалом был «солидный — любимое слово тех времен — предприниматель с независимым капиталом», «ни разу не видевший своего имени на векселе или долговом обязательстве» и в гроссбухах своего банка всегда «ставивший его только в графе „приход"», что и составляло «гордость всей его жизни».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Должно быть, из-за удушья у него все время дергалась голова, и казалось, что он беспрерывно кому-то кивает. Я со страхом подумал: «Вот наконец настал момент, когда он задумался над вопросами, которых раньше всегда избегал». Я попытался подсмотреть, куда именно устремлен его взгляд. Он сидел в кресле совершенно прямо и смотрел вверх с усилием человека, которому приходится что-то разглядывать сквозь слишком высоко расположенное окошко. Мне показалось, что он смотрит на Плеяды. Может быть, за всю свою жизнь он ни разу не смотрел так далеко и так долго. Внезапно, продолжая держаться все так же прямо, он повернулся ко мне.
— Смотри! Смотри! — сказал он мне со строгой укоризной. Потом снова взглянул на небо и снова обернулся ко мне.
— Видел? Ты видел? — Он хотел опять повернуться так, чтобы увидеть звезды, но не смог и в изнеможении откинулся на спинку кресла. А когда я спросил его, что он хотел мне показать, он не понял; он уже позабыл о том, что он увидел и что ему так хотелось мне показать. Слово, которое он хотел мне поведать и которое так долго искал, ускользнуло от него навсегда.
Ночь была долгой, но, по правде сказать, не слишком утомительной для нас с санитаром. Мы позволили больному делать все, что он хочет, и он расхаживал по комнате в своем странном одеянии, не подозревая о том, что ждет смерти. Один раз, правда, он попытался выйти в коридор, где было очень холодно. Я ему не разрешил, и он тотчас же повиновался. Но потом санитар, слышавший рекомендации врача, попытался помешать ему подняться с постели, и тут отец взбунтовался. Он вышел из своего оцепенения и со слезами и проклятьями все-таки поднялся. И тогда я потребовал, чтоб санитар не стеснял его в движениях. Отец сразу же успокоился и снова началось это его молчаливое существование и этот его тщетный бег по комнате в поисках облегчения.
Когда пришел врач, он дал себя осмотреть и даже старался глубоко дышать, когда его об этом просили. Потом повернулся ко мне:
— Что он говорит?
Потом отвлекся, но вскоре снова обратился ко мне:
— Когда я смогу выходить?
Доктор, обнадеженный таким послушанием, попросил меня сказать больному, чтобы тот постарался больше лежать в постели. Отец прислушивался только к тем голосам, которые были ему привычны: ко мне, к Марии, к санитару. И хотя я совершенно не верил, что от этого лежания будет какой-то прок, я выполнил просьбу врача и даже постарался придать своему голосу угрожающую интонацию.
— Хорошо, хорошо! — пообещал отец, но в ту же минуту поднялся и направился к креслу.
Врач взглянул на него и, по-видимому, поняв, что ничего с этим не поделаешь, пробормотал:
— Видимо, от перемены положения ему становится легче.
Вскоре я отправился спать, но не мог сомкнуть глаз. Я думал о своем будущем и о том, что мне теперь не для кого и не для чего стараться быть лучше. Я долго плакал, но жалел скорее себя, чем несчастного, который метался из угла в угол в своей комнате.
Когда я поднялся, пошла спать Мария, и у постели отца остались мы с санитаром. Я чувствовал себя усталым и разбитым, а отец был беспокойнее, чем обычно.
Вот тогда-то и произошла та ужасная сцена, о которой я никогда не мог забыть и тень которой простерлась далеко в будущее, омрачив все мои радости и отняв у меня мужество. Понадобились годы, заставившие поблекнуть все мои чувства, чтобы притупилась наконец и эта боль.
Санитар сказал:
— Хорошо, если бы нам удалось удержать его в постели. Доктор придает этому такое значение!
До этого я лежал на диване. Услышав слова санитара, я поднялся и подошел к постели, где лежал больной, задыхаясь больше, чем обычно. Я решил во что бы то ни стало хотя бы полчаса продержать отца в постели, как рекомендовал это врач. В конце концов, разве не было это моим долгом?
Стараясь высвободиться из моих рук и подняться, отец тут же рванулся к краю постели. Но я удержал его, сильно надавив на плечо, и, резко прикрикнув, велел ему не двигаться. Напуганный, он на некоторое время притих. Потом вдруг воскликнул:
— Умираю!
И приподнялся. Испуганный, в свою очередь, его криком, я ослабил хватку, и ему удалось усесться на постели, прямо передо мной. Наверное, то, что он, пусть ненадолго, оказался скованным в движениях, усилило его гнев, и он, должно быть, решил, что я не только заслоняю ему свет, стоя перед ним, сидящим, но и отнимаю у него воздух, которого ему так не хватало. Сделав нечеловеческое усилие, он все же встал с постели, поднял руку — высоко-высоко, словно знал, что может рассчитывать только на вес своего тела, и ударил меня по щеке. Потом соскользнул обратно на кровать, а оттуда на пол. Он был мертв.
Тогда я еще не знал, что он умер, но у меня сжалось сердце при мысли о том, что, уже умирая, он захотел меня наказать. С помощью Карло я поднял его и положил на постель. И плача, как плачет наказанный ребенок, прокричал ему прямо в ухо:
— Это не я! Это все проклятый доктор! Это он хотел, чтобы ты оставался в постели!
Это была неправда. И опять-таки как обиженный ребенок, я пообещал ему, что больше не буду.
— Я позволю тебе делать все, что ты хочешь!
Санитар сказал мне:
— Он умер.
Меня увели из комнаты силой. Он умер, и теперь я уже никогда не докажу ему свою невиновность!
Оставшись один, я попытался прийти в себя. Я рассуждал так: не может быть, чтобы отец, находившийся все время без сознания, вдруг решил меня наказать и сумел с такой точностью рассчитать и нанести удар!
Но разве мог я быть уверен, что это мое рассуждение было правильным! Я даже подумал, не обратиться ли мне к доктору Копросичу. Как врач, он мог бы мне объяснить, в какой степени умирающий способен рассуждать и действовать. Может быть, я просто стал невольной жертвой нечаянного жеста — жеста, который был сделан всего лишь для облегчения дыхания! Но я ничего не сказал Копросичу. Разве мог я ему открыть, как попрощался со мной отец? Ведь он и так уже обвинял меня в недостатке сыновней любви.
И для меня было последним тяжким ударом, когда вечером я услышал, как Карло рассказывает на кухне Марии:
— И тогда отец поднял руку — высоко-высоко — и ударил сына по щеке. Это было его последнее, предсмертное движение. — Санитар знал об этом, и, следовательно, об этом неминуемо узнает и доктор Копросич.
Когда я вернулся в комнату умершего, я увидел, что труп обрядили. Наверное, санитар причесал его густые белоснежные волосы. Смерть уже заставила окоченеть это тело, и оно покоилось на своем ложе величественно и угрожающе. Руки отца — большие, сильные, красивой формы — посинели, но лежали с такой естественностью, что казалось, вот-вот протянутся ко мне и накажут. Больше я его не видел: не мог и не захотел.
Потом, уже во время похорон, я вспомнил отца таким, каким знал его всегда, со времен детства — слабым и добрым, — и убедил себя, что та пощечина, которую он мне дал умирая, была невольным, нечаянным жестом. И мне сразу стало хорошо и спокойно, и воспоминание об отце тоже сразу же стало меняться, делаясь все приятнее и приятнее. Это было как прекрасный сон: наконец-то мы с отцом обрели полное согласие, из нас двоих я стал слабым, а он — сильным.
Потом я надолго вернулся к религиозным представлениям своего детства. Мне казалось, что отец меня слышит и теперь я могу ему сказать, что виноват во всем был не я, а доктор. То, что это была ложь, не имело никакого значения, поскольку теперь он понимал все, как, впрочем, и я. И еще долго продолжалось это мое общение с отцом — приятное, как запретная любовь, и такое же, как она, тайное, поскольку вслух я продолжал смеяться над обрядовой стороной религии, хотя на самом деле — я должен здесь в этом признаться — я каждый день возносил сам не знаю кому страстные молитвы о душе моего отца. Это, собственно, и есть настоящая религия: ее не нужно исповедовать в открытую для того, чтобы получить утешение — то утешение, без которого порой — правда, такие случаи бывают редко — просто невозможно прожить.