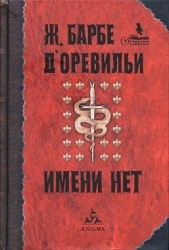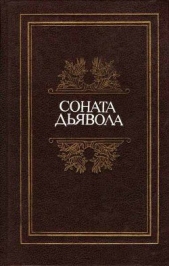Порченая
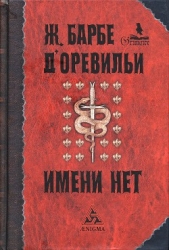
Порченая читать книгу онлайн
«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение. Никогда не скрывавший своих роялистских взглядов Барбе, которого Реми де Гурмон (1858–1915) в своем открывающем книгу эссе назвал «потаенным классиком» и включил в «клан пренебрегающих добродетелью и издевающихся над обывательским здравомыслием», неоднократно обвинялся в имморализме — после выхода в свет «Тех, что от дьявола» против него по требованию республиканской прессы был даже начат судебный процесс, — однако его противоречивым творчеством восхищались собратья по перу самых разных направлений. «Барбе д’Оревильи не рискует стать писателем популярным, — писал М. Волошин, — так как, чтобы полюбить его, надо дойти до той степени сознания, когда начинаешь любить человека лишь за непримиримость противоречий, в нем сочетающихся, за широту размахов маятника, за величавую отдаленность морозных полюсов его души», — и все же редакция надеется, что истинные любители французского романтизма и символизма смогут по достоинству оценить эту филигранную прозу, мастерски переведенную М. и Е. Кожевниковыми и снабженную исчерпывающими примечаниями.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В одно из воскресений деревенские жители слушали в церкви мессу, а Руфин Дагури вместе со своим господином вот уже с неделю охотился на кабанов в ближайшем лесу.
В замке хозяйничала одна Луизон. Надо сказать, что доверить охрану замка пятнадцатилетней девочке было тем более неосмотрительно, что Франция в те времена кишела шайками всевозможных бандитов, разбойников и негодяев. Но Нормандия есть Нормандия: нормандцы с детским простодушием признаются, что добром своим дорожат крепко, но защищать его принимаются только тогда, когда воры его к дверям понесут, и защищают, надо сказать, отчаянно.
Я и сам знавал в детстве фермеров-хуторян, что жили в нескольких лье от ближайших соседей и совершенно спокойно ложились спать, не запирая дверей. Им все казалось, что живут они в патриархальные времена доброго Роллона [24].
Однако вернемся к хорошенькой девушке. Благоухая юной свежестью, она была лишней приманкой для отпетых негодяев, что шлялись тогда в здешних краях, грабили, а порой и сжигали фермы.
Однако Луизон в то воскресенье еще меньше, чем когда-либо, думала о грабителях. Прижав к полной и белой груди «мушкетера» — как называют в наших краях ситный хлеб, — она отрезала большие аппетитные ломти, и в эту минуту дверь на кухню толкнул нищий и попросил милостыни.
— Проходи, голубок, — пригласила его Луизон, — присядь на лавку. У меня похлебка варится, вот-вот будет готова, и я налью тебе полную миску.
Седобородый нищий с кряхтеньем опустился на скамью, а Луизон сновала себе туда и сюда, занимаясь хозяйственными хлопотами.
Между делом зашла она в соседнюю с кухней комнату и, поправляя перед зеркалом кружевной воскресный воротничок, вдруг увидела в зеркале, что нищий снял с себя бороду, а потом привязал ее покрепче. Тут-то Луизон и вспомнила о грабежах и убийствах, о них тогда немало толковали в округе.
«В церкви, похоже, еще и не причащали, — прикинула она, — да и разбойник наверняка не один». И, почувствовав, что кровь отхлынула от щек, наклонилась над очагом, чтобы огонь вернул ей румянец. Вернулась на кухню, сняла с огня котел и на вытянутых руках отнесла в ту комнату, где висело зеркало, поставила на стол и плотно прикрыла за собой дверь. Теперь она наблюдала за гостем не в зеркало, а в замочную скважину. И что же? Нищий раскрывал под столом, за которым сидел, огромный нож. Сердце Луизон ударило в набат, но, как оно ни колотилось, голова оставалась трезвой и ясной. Луизон вылила клокочущую похлебку в большую глиняную миску, в которой обычно держала хлеб, повесила на сгиб левой руки топор, взяла миску и крикнула:
— Голубок! Руки у меня заняты твоим супом. Отвори-ка дверь!
Разбойник открыл ей дверь, собираясь приставить нож к горлу, но Луизон с мужественной жестокостью плеснула ему в лицо кипящим супом, и негодяй, ослепнув от боли, взвыл. Бросив миску и подхватив правой рукой топор, Луизон всадила его в голову воющего мужика, словно заправский мясник, что одним ударом меж рогов раскалывает быку череп. К топору она больше не прикоснулась — просто перешагнула через лежащего в луже крови бандита, как перешагнула бы через ветку лесного шиповника. В каждом своем поступке, каждом движении оставалась она истинной нормандкой.
Дальше она действовала и с умом, и по наитию: заперла входную дверь на задвижку, придвинула к ней тяжелый кухонный стол, достала из-за каминного колпака отцовское ружье и поднялась на второй этаж, нисколько не заботясь о том, кто хрипел в агонии, утопая в собственной крови. Наверху она зарядила ружье, открыла окно, смотревшее на ворота, и села ждать.
Появились два разбойника и сразу же направились к кухонной двери. Найдя ее закрытой, очень удивились, задрали головы вверх и увидели девушку.
— Отвори нам, девочка! — закричали они.
Луизон, прицелившись, пригрозила спустить курок, если они немедленно не уберутся. Здоровые мужики только посмеялись над девчонкой и принялись ломать дверь, но один из них тут же упал с пулей в сердце. Другой, мстя за жизнь товарища, послал девушке, которая перезаряжала ружье, ответную пулю. Она снесла батистовый чепчик с головы Луизон, и обитатели замка, что возвращались с мессы, увидели удивительную картину: в обрамлении окна сидит простоволосая Луизон с ружьем в руках, и щеки у нее пламенеют, как алая лента, перехватившая густые пшеничные волосы.
Бандит убежал, а если были по соседству другие, то не решились показаться, так как месса уже кончилась.
После сего достопамятного события Луизон и стала в замке не то балованной дочкой, не то главной султаншей. Мужская отвага юной девушки, почти ребенка, которой недостало серьезных исторических событий, чтобы сделаться истинной героиней, и сама эта никому не ведомая Жанна с топором, за которой не следили глаза целого города, подпитывая ее мужество электрическими разрядами энтузиазма, восхитили друзей-аристократов виконта де Надмениля; насквозь порочные, они хранили верность одной-единственной добродетели — беззаветной отваге. Реми де Орлон решил, что в девочке ему подала весть его собственная орлиная кровь, и гордость пробудила в нем крепко спавшие отцовские чувства.
Он стал сажать Луизон вместе с собой за стол и доверил ей, несмотря на юность, все хозяйство своего замка. Частенько он брал ее с собой на охоту и любовался, как она ничуть не хуже его самого приканчивала кабана и скакала с дерзкой ловкостью истинной котантенки на самых норовистых и необъезженных лошадях. Нет сомнения, будь Луизон натурой позаурядней, выучка замка Надмениль нанесла бы ей непоправимый урон, ибо на празднества, которые она возглавляла после охоты, гости привозили с собой срамных девок, а те не считали нужным стесняться хозяйки — с какой стати, ведь она не была ни госпожой, ни барышней, а такой же, как они, простолюдинкой и даже не пожелала сменить на господский свой привычный крестьянский наряд: Луизон носила неизменный кружевной передник и гордый высокий чепец, какой носят в Нормандии одни крестьянки, хотя он достойно увенчал бы и принцессу. По счастью, Луизон, у которой к этой поре уже не было матери, принадлежала к породе сильных — такие умеют вырастать в одиночку, Господь Бог дает им крепкие скулы, чтобы вытянуть молоко из бронзовых сосцов Необходимости.
Луизон сумела внушить к себе уважение, какого давным-давно не искали окружавшие ее беспутные господа. Но кое-кому из господ она внушила и вожделение, на какое способны только не утоленные пороком души, боровшиеся против пресыщенности с ожесточением старого Тиберия на Капри [25]. Луизон, почувствовав близость охотников, из амазонки превращалась в девочку с пылающими от смущения щеками.
Как неожиданно было сочетание бесстрашия и слабости в юной и невинной убийце двух мужчин, запятнавшей свои ручки — нежнее цветов персика — кровавыми каплями. Как оно возбуждало! Пресыщенные аристократы, истасканные повелители наслаждений, чуяли будоражащий запах крови и надеялись добиться от Луизон другого кровавого дара. Но Луизон-Кремень, как выяснилось, умела и воевать, и защищаться. Она оборонялась так твердо, что Локис де Горижар, сохранивший лишь жалкие крохи былого богатства и не получивший бы в Нижней Нормандии за себя ни одну невесту, даже из мелкопоместных, воспылал к простолюдинке неудержимой страстью и запятнал дворянский герб мезальянсом.
Вот какова была у Жанны Мадлены мать, знаменитая Луизон-Кремень, на которую, по словам тех, кто знавал ее, походила и Жанна. Луизон умерла вскоре после рождения дочери. Беснующаяся лошадь ударила ее копытом в грудь — грудь, что могла бы вскормить героев, так как с молоком матери сыновья впитали бы лишь благородство, ибо ни одна низменная страсть не томила сердца Луизон. Той же душевной силой наделила она и дочь, и та хранила ее, словно дух святой, но, на беду Жанны Мадлены, в ее жилах текла и кровь Горижаров, древнего и пламенеющего страстями рода. Их кровь неминуемо должна была вспыхнуть, стоило старой ведьме Судьбе поднести ей своего кипящего варева и разжечь тлевший в жилах пожар. Да, когда Жанне предложили замужество с Ле Ардуэем, она узнала, что значит гореть возмущением, донимал ее в юности и жар сердца, который знаком каждой девушке, только ее он палил особенно горячо и безжалостно.