Кнут
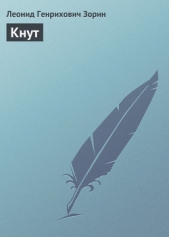
Кнут читать книгу онлайн
Провинциал по фамилии Подколзин приезжает в Москву, подрабатывает в газете и страшно хочет славы. Девушка от него ушла, известность ему не светит. И вот однажды Подколзин поплакался по этому поводу своему приятелю. Остроумный приятель затеял эксперимент: он заставил Подколзина спрятаться в квартирке, а потом стал распускать по столице слух: мол, есть такой человек, который написал великий роман «Кнут», но издавать его не хочет. Не прошло и пары недель, как о «Кнуте» заговорила вся Москва...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Годовалов горько качал головой и повторял: «Трагедия духа».
Полякович без обычной брюзгливости сказал, что хотя он был сдержанней прочих, тем не менее обязан признать: это поступок незаурядного, стоящего особняком человека.
Впервые неистовый Маркашов не мог утаить своей растерянности и громогласно заявил, что испытывает сложное чувство. Даже малознакомым людям он доверительно сообщал:
— Скажу по чести, не хочется думать, что мои аргументы его побудили к этому мужественному решению. Мы, люди шестидесятых годов, всегда говорим нелицеприятно, но все идейные разногласия нисколько не мешали мне видеть и ощущать его самобытность. Я протягиваю ему мысленно руку и желаю ему пережить эту драму, выйти из нее обновленным.
Маркашов, разумеется, не преминул подчеркнуть непростительную черствость генерации, вышедшей на авансцену.
— Вот кто ленив и нелюбопытен! — гремел он, где бы ни появлялся. — Вот вам подколзинские друзья! — эта стрела была пущена в Дьякова. — Держали в руках произведение, которое они сами оценивали, можно сказать, как Новейший Завет, и хоть бы кто-то его отксерокопировал, не говоря уж о микрофильме! Читали, причащались, мудрели, но не думали ни о нем, ни о родине. Нет уж, мы поступали иначе!
Федор Нутрихин объяснял, что истинный творец беспощаден. Его бельгийский издатель плакал, когда он отказал ему в просьбе отдать неотграненную книгу. Нутрихин сказал: срок не пришел.
Вслед за Нутрихиным Глеб Вострецов также припомнил сходные факты, почерпнутые из своей биографии. Добавив при этом, что из огня творение является вновь, как возрожденная птица Феникс.
В новой подборке своих жемчужин Сыромятникова опубликовала двустишие, назвав его «Реквием по Кнуту». Переполнявшая ее боль была выражена с графической точностью: «Мучительно, что завершила жизнь Фаллически безжалостная мысль».
Арфеев восклицал потрясенно:
— Подлинно гоголевское величие! Он породил, он и убил.
Очередной свой пушкинский вечер Арфеев закончил стихотворением «Андре Шенье» — обратившись к публике, так яростно крикнул: «Плачь, Муза! Плачь!», что своеобразная красавица Васина на минуту потеряла сознание, а зал оценил злободневный подтекст.
Естественно, все искали Дьякова. Телефон у наперсника разрывался, но автоответчик бесстрастно твердил: «Запил. Звоните через неделю». Никто не сумел выйти на связь, даже Глафире при всей настойчивости не удавалось к нему пробиться. Однако ж она проявила упорство, подстерегла у самой двери, когда, пополнив свой арсенал высокоградусного продукта, Дьяков возвращался домой. Глафира заявила ему, что в эти трагические дни не в силах существовать в одиночестве. С ней может случиться бог знает что. И Яков Дьяков капитулировал.
— Ну как он мог! — причитала Глафира, эффектно вылезая из юбки, словно Афродита из пены. — Это кощунство! Это убийство!
— Я не осуждаю Подколзина и не обсуждаю его, — сказал Дьяков, укладываясь с ней рядом. — Подколзин живет по своим законам.
— А мы — по своим, — шепнула Глафира. — Не правда ли, в такие моменты особенно остро хочется жить?
— Пожалуй, что так, — согласился Дьяков. — Жить надо, ничего не поделаешь.
Потом она утомленно сказала:
— Я тебя вывела из стресса.
— Ты поступила благородно, — сказал Дьяков. — Я тебе благодарен.
Она не без гордыни добавила:
— Всегда могу тебя соблазнить.
— Нечем тут хвастать, — заметил Дьяков с педагогической интонацией. — Ясное дело, девица в цвету, в юбке выше аппендицита. Когда к тебе ломится юная лань, всей твоей твердости хватает разве что лишь на одно местечко.
Глафира драматически всхлипнула:
— Только подумать — «Кнута» уже нет.
— И все ж надо жить, — повторил Яков Дьяков.
Чрез несколько дней в его квартире возник Подколзин — он был небрит, темно-соломенные пряди беспорядочно разлетелись в стороны, обычно задранный ввысь подбородок опал, как будто в нем что-то сломалось.
— Входи, детоубийца, входи, — приветливо пригласил его Дьяков. — Как себя чувствует, что испытывает втайне Великий Инквизитор после такого ауто-дафе?
— Спроси у себя, — буркнул Подколзин, — ты же его организовал.
— Хочешь кофию или чего покрепче? — спросил Яков Дьяков. — Залить глаза?
— Нет, не хочу, — сказал Подколзин. — Возьми, пожалуйста, этот конверт.
— Толстенький… — хозяин квартиры уважительно взвесил его на ладони. — И что в нем находится?
— Моя премия. Мне она не нужна. Забирай.
— Это еще что за вздор? — крикнул Дьяков.
— Нет, это не вздор. У меня есть достоинство.
— Ты премию и получил за достоинство. И не только — своего интеллекта.
— Я не возьму. Она — твоя. Ты фактически меня содержал все это время, — сказал Подколзин. — Да и с какой стороны ни взгляни, это твой персональный приз. Короче говоря, я настаиваю.
Дьяков великодушно кивнул.
— Если душа твоя так желает — будь по-твоему. Разделим по-братски. Бесспорно, общение с элитой и с обезумевшими подколзинками потребовало определенных расходов. И — хватит об этом. Что деньги? Пепел. Это мы в школе еще учили. Главное — наше самосознание.
В раскрытые окна легко проникали дурманящие запахи лета, успокоительный шум листвы, над благостным Яузским бульваром по-птичьи звенел дитячий гомон.
— Нет у меня самосознания, — непримиримо сказал Подколзин, — дым и зола вместо него. Кто я такой? Какой-то фантом…
— Ты этого хотел, Жорж Подколзин. Только фантомы у всех на устах. И не маши своей соломой. Скажешь о тех, кто стоит на полках? А многие ль читали Овидия? Данта? Или даже Шекспира? Для абсолютного большинства твоих современников это фантомы. Значит, умерь пренебреженье. Пойми наконец: настоящая жизнь бывает единственно у мифов. Поэтому факты мрут, как мухи, а мифы живут и процветают. Ты сын отечества, как я надеюсь, а в отечестве легенды — в цене. Егор, Россия не стихия, не вызов прочим племенам, Россия — это ностальгия по сочиненным временам.
— Так все-таки ты пишешь стихи?!
— Изредка выхожу в астрал, — нехотя признал Яков Дьяков. — Нормально — для жителя Ипсилона. Но, вообще-то говоря, попросту дисциплинирую мысль. Ритм и рифма незаменимы, когда добиваешься концентрации. Да и братья по разуму лучше усваивают всякие считалки с речевками.
— Твой взгляд на этих братьев безжалостен, — с горечью произнес Подколзин.
— Теперь я верю, что ты ипсилонец. Смотришь на нас, словно мы насекомые.
— Дело совсем не в величине, а в отношении к предмету. И в микроскопе, и в телескопе, в сущности, видят одно и то же. Не спорь, Подколзин, не спорь, я прав. Ибо любые кометы и звезды, не говоря об астероидах, выглядят ничуть не внушительней, чем помянутые тобой инфузории, пусть увеличенные стеклом. Разница в том, что на одни мы смотрим, задрав свои бедные головы и подсознательно пресмыкаясь, а на другие глядим сверху вниз и не скрывая высокомерия. И точно так же классифицируем себе подобных: одни — небожители, другие — стрекозки и божьи коровки. Меняй отношение к предмету, а вовсе не предмет. В этом — суть.
Подколзин напряженно задумался. Потом негромко проговорил:
— Так, значит, я сохраняю шансы на уважение и внимание единственно пока я фантом?
— Пока это общество несовершенно, все обстоит безусловно так. Мифы лежат в основе идей, идеологий и репутаций. Лишь в качестве мифа можно рассчитывать на относительно долгую жизнь, если ты не Александр Сергеевич, — впрочем, мы и тут постарались. В сущности, миф — это бессмертие в той же мере, в какой бессмертие — миф.
— Ужасно, — пробормотал Подколзин.
— Что делать, прими мои слова как галахическое постановление, — жестко отрубил Яков Дьяков. — Хочешь, чтоб тебя узнавали по когтю льва, соответствуй легенде. Не хочешь — не ропщи на забвенье. В нем, кстати, есть свое обаяние. Путь известен: ничто превращается в нечто, далее нечто становится всем, а все превращается в ничто. Вот в эту минуту бредет по Плющихе некий страдалец из города Лальска и пестует свой лальский синдром, который не слабее, чем вельский. Он уж готов занять твое место, и новое имя будет греметь ничуть не глуше, не сомневайся, чем имя забытого Подколзина.
























