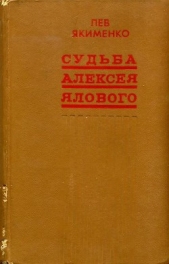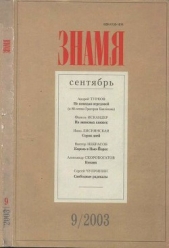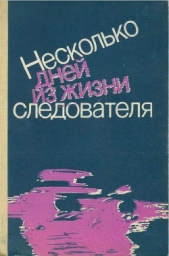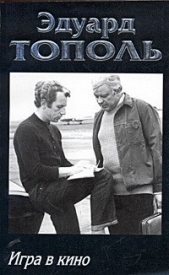Только о людях

Только о людях читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Если только до этого ты не станешь директором, сказал отец, который всё видел в мрачном свете.
Нужно было ждать еще два года… Но какие же это были годы! Братья Хазунзун играли уже не «Марсельезу», а «Интернационал», по улицам ходили солдаты, увешанные пулеметными лентами, а комендантом города стал косоглазый матрос Петька Новиков, — тот самый Петька, который так виртуозно свистал в детстве.
Пошли аресты. Когда забрали кладбищенского священника, отца Феодора, бабы на Базарном привозе устроили бунт. Привоз был рядом с кладбищем и торговки считали отца Феодора своим духовником. В полдень сотня разъяренных баб двинулась в город, к Комендантскому управлению, у ворот которого дежурили моряки с пулеметом.
На крики толпы Петька вышел на балкон. Бескозырка его была сдвинута на затылок, у пояса болтался наган, и весь вид свидетельствовал о том, что он твердо решил защищать завоевания революции. Мать коменданта, старуха Новиковша, подбоченилась и завопила из толпы истошным голосом:
— Петька, идол косоглазый! Комендант, мать твою так и сяк… Отпусти батюшку! Отпусти батюшку, или я, туды тебя и сюды, всю морду раскровяню!
Петька стоял на балконе и кусал губы. Это был явный подрыв престижа советской власти. Побелев от злобы, он начал кричать в ответ:
— Мамаша, вас лично попрошу разойтись… Мамаша, разойдитесь!
Не знаю, как происходила революция в Москве и в Петрограде, но в маленьком городе всё было по семейному и сцена эта никого не удивила, — комендант революционной власти всё же оставался для нас Петькой, а Новиковша никак не походила на Шарлотту Кордэ.
Батюшку отпустили, но в ту же ночь председатель Ревсовета, портовый дрогаль Барзов, приказал арестовать в качестве заложников двадцать буржуев. В числе арестованных оказался и мой отец.
Матросы пришли в дом ночью, предъявили приказ об аресте и произвели обыск, — искали спрятанное оружие. Ничего они не нашли, но в комоде был обнаружен загадочный предмет, завернутый в мохнатое полотенце.
— Бери на исследование, сказал начальник патруля. Легче, братцы!
Мы стояли вокруг и молчали. С бесконечными предосторожностями, словно внутри была бомба, коробку открыли и сняли вату. Бутылка засияла во всей своей первобытной красоте.
— Товарищи, сказал матрос. Товарищи и братья! Есть случай выпить за успех и процветание революции.
Я всегда считал, что русская буржуазия морально обанкротилась, не оказав революционной черни должного сопротивления. Мы стояли молча, подавленные, парализованные, и никто из нас не сказал, что это — символ, что с этой бутылкой связана история нашей семьи, что грубое прикосновение к ней является кощунством. А матрос с видимым удовольствием прищурил глаз, посмотрел на свет и коротко и осторожно ударил старинной бутылкой по краю мраморного туалетного столика… И горлышко с сургучной печатью отлетело, полстакана драгоценной жидкости пролилось на пол, а остальное забулькало в горле у матроса. Бутылка с отбитым горлышком стала переходить из рук в руки, пока на дне ее ничего не осталось, кроме мелких осколков стекла, упавшего внутрь.
На этом история наполеоновского коньяка кончается. Отца той же ночью Петька Новиков освободил. Выпустил он и остальных буржуев и каким то образом попавших в их компанию заслуженных деятелей искусства братьев Хазунзун. Их захватили после митинга, вместе с музыкальными инструментами.
Выйдя из ворот тюрьмы Хазунзуны пошептались, стали на улице полукругом и, бодро размахивая смычками, на радостях и из благодарности заиграли «Интернационал».
Талисман
В каждом доме, в шкафу, можно найти коробку, туго перевязанную бичевкой, со старыми письмами и бумагами, когда-то казавшимися очень важными. Проходят годы, о коробке давно все позабыли, пока случайно ее не извлекают на свет Божий. Коробка лежит на полу с виноватым видом, и вдруг всем становится ясно, что именно из-за нее в доме стало тесно, что в шкафах больше нет места даже для очень важных вещей, и что этот немного загадочный и никому ненужный предмет мешает жить.
— Посмотри, что там внутри, и всё ненужное выбрось, пожалуйста, предлагает жена с деланной кротостью, не допускающей возражений.
Это очень интересное занятие, — просматривать содержимое старых коробок. Плотные пачки писем, которые я собираюсь перечесть уже двадцать лет и нё нахожу для этого подходящего времени. Пусть лежат дальше. Когда-нибудь, в свободный вечер, нужно будет их разобрать. Какие-то летние фотографии с людьми, — ни одного имени я давно уже не помню. Мы провели вместе две недели в горах, снимались на скалах и около водопада, при расставании клятвенно обещали, что будем встречаться и — никогда не встретились, и никогда друг о друге не услышали. Кто же это такие, — все эти мужчины в соломенных канотье и слегка полнеющие дамы в декольтированных летних платьях? А кто эта дама в широкополой фетровой шляпе, из-под которой так загадочно смотрят на меня томные глаза с лирической поволокой? Даму следовало бы выбросить, но вдруг становится жаль. Может быть, я еще вспомню. И карточка, вместе со многими другими, опять отправляется в коробку. Дальше идут газетные вырезки, постепенно превращающиеся в желтую труху, испорченное самопишущее перо, пачка тупых и изгрызанных карандашей, часы-браслет, сохранившиеся со студенческих времен. А это что? Со дна коробки извлекаю какой-то мешочек из зеленого плюша, затянутый тесемкой. Внутри аккуратно сложенная бумажка, и на ней, коряво и полуграмотно, выведено:
«Лягу я раб Божий помолюсь, встану я благословясь, умоюсь я росою, утрусь престольною пеленою, пойду я от дверей в двери, из ворот в ворота, выйду в чистое поле, во зеленое поморье. Стану я на сырую землю, погляжу в восточную сторонушку, как красное солнышко воссияло: припекает мхи, болота, черные грязни. Так бы прибегала, присыхала, раба Божия Нина о мне рабе Божием Андрее, очи в очи, сердце в сердце, мысли в мысли; спать бы она не засыпала, гулять бы не загуляла, аминь тому слову».
— Что за чепуха! подумал я. Откуда у меня это заклинание, в котором я прошу, чтобы «присыхала» по мне раба Божия Нина?
Нину я помню. Это было давно и, может быть потому, что в тайниках памяти лучше всего сохраняются очень давние события и образы, Нина так отчетливо выступает сейчас передо мной, со множеством деталей: легкий налет загара на молодом лице, очень светлые, почти прозрачные, серые глаза, не совсем еще развитые девичьи плечи и трогательные, выдающиеся ключицы. В это лето она носила какие-то особенно легкие платья, очень узкие в талии, волосы зачесывала назад, так, что они спадали широкой волной на плечи, говорила низким, грудным голосом… Кажется, она подражала какой-то знаменитой актрисе, которая приехала в город на гастроли и очень быстро свела всех нас с ума.
Конечно, я был влюблен, писал даже стихи, и по ночам мы сидели на молу, как завороженные, смотрели на лунное серебро, разлитое по морю, и целовались, пока лицо Нины не становилось совсем бледным. Тогда она медленно откидывалась и смотрела на меня удивленными и слегка испуганными глазами, и потом уже не было ничего, кроме удивительной тишины и ярких звезд в высоком, синем небе.
Днем мы встречались на раскаленных камнях у самой воды. Солнце палило невыносимо, в закрытых глазах плыли оранжевые и зеленые точки и диски. Иногда нерешительно набегала волна, лениво разбивалась о камни, взлетая вверх клочьями мыльной пены, и мы вздрагивали и ежились, когда ледяные брызги падали на наши распаленные солнцем тела.
Мы почти не говорили. Всё важное было уже сказано, и только время от времени, даже не поворачиваясь в мою сторону, очень тихо и настойчиво Нина спрашивала:
— Да?
— Да, отвечал я.
— Очень?
— Очень.
И вскоре после этого она ушла от меня, ушла неожиданно и без объяснений, попросив лишь вернуть ей фотографию и письма. Это показалось мне тогда ребячеством и ненужной жестокостью, но только теперь, много лет спустя, я понял, что она была права: все эти письма неизбежно оказались бы в этой самой картонке, в глубине шкафа, забытые вместе с другими свидетельствами моего несложного прошлого. Я писал ей отчаянные письма, умоляя вернуться, ревновал к кому-то неизвестному, кто отнял у меня Нину, часами подкарауливал у ее дома, но она никогда не появлялась, а потом мне сказали, что она уехала в большой университетский город. Можно ли забыть такое горе? Нина снилась мне по ночам, я начал писать дневник, и вдруг, не выдержав, тоже уехал из города, где всё ее напоминало, — бежал от воспоминаний, — они преследовали меня на каждом шагу, наполняли мою двадцатилетнюю жизнь невыносимой и сладкой болью.