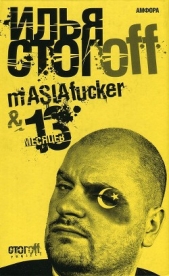Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? (сборник)

Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? (сборник) читать книгу онлайн
Представленные в настоящем издании романы "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?" и "Лучше бы я остался дома" Хораса Маккоя являются вершиной творчества американского писателя. Жестоко и хладнокровно Маккой повествует об изломанных судьбах молодых юношей и девушек, привлеченных блеском и славой Голливуда и отвергнутых равнодушным городом, а если прибегнуть к обобщению, он повествует о судьбе целого поколения и каждого человека, о его одиночестве и мечтах, обреченных на вечное "несвершение".
Перевод с английского О. Кубатько.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Револьвер я держал в руке.
– Ну ладно, – сказал я Глории. – Скажешь когда.
– Прямо сейчас.
– Куда?
– Сюда. В висок.
Мол содрогнулся от удара огромной волны.
– Уже?
– Уже.
И я выстрелил.
Мол содрогнулся снова, и вода захлюпала, стекая обратно в море.
Револьвер я бросил через парапет.
Один полицейский сидел со мной сзади, другой вел машину. Ехали мы очень быстро, с включенной сиреной. Точно такой же сиреной, как та, которой нас будили на танцевальном марафоне.
– Почему ты ее убил? – спросил полицейский, сидевший на заднем сиденье.
– Она меня попросила, – ответил я.
– Эй, Бен, ты слышишь?
– Какой услужливый мерзавец, а? – бросил тот через плечо.
– И никаких других причин не было? – снова спросил полицейский.
– Но ведь загнанных лошадей пристреливают не правда ли? – сказал я.
Лучше бы я остался дома
Часть 1
1
Я сидел, и сидел, и сидел: сидел с того момента, как вернулся из зала суда, совсем один, без единого друга, чувствуя себя совершенно потерянным в этом самом безумном городе в мире, глядел из окна на пальму с растрепанными листьями, что стоит посреди двора, а в голове у меня была только Мона, Мона, Мона… Я все думал, что буду теперь делать без нее, только об этом и ни. о чем другом: что я теперь без тебя буду делать? Наконец настала ночь (никаких закатов, розовых небес или фиолетовых сумерек), сразу глубокая темная ночь, и тогда я встал и вышел на улицу, я никуда не собирался, просто хотел пройтись, уйти прочь из дома, где я жил с Моной и где еще сохранился ее запах. Я уже несколько часов хотел убраться оттуда, но мне мешало солнце. Я боялся солнца, не то чтобы оно так уж пекло, но оно могло развеять мои мечты, которыми я только и жил. Дела ни к черту, никого рядом, впереди черной бездной зияет будущее… В таком настроении мне вовсе не хотелось шататься по улицам и видеть то, что было видно при солнечном свете: заурядный город, полный заурядных заведений и заурядных людей, точно такой, как тот, откуда я приехал, такой же, как любой из десяти тысяч маленьких городков Америки. Это не мой Голливуд, не тот Голливуд, о котором пишут в газетах. Я боялся наткнуться на что-либо, отчего захочется вернуться домой, и потому ждал, пока стемнеет и наступит ночь. Ночью Голливуд становится загадочным и волшебным, и человек приходит в восторг от того, что он сейчас именно здесь, здесь, где чудеса происходят на каждом шагу и где сегодня ты нищ и убог, а завтра уже богач и звезда…
По Вайн-стрит я направился на север, в сторону Голливудского бульвара, пересек бульвар Сан-сет, миновал несколько фаст-фудов – на их месте раньше находилась студия «Парамаунт», – в которых можно было сделать заказ, не выходя из машины; вокруг автомобилей носились девушки и юноши в ливреях, а мне казалось, что я вижу иронические усмешки на лицах Уоллиса Рида, Валентино и других звезд былых времен, некогда снимавшихся на этой киностудии, словно они глядели откуда-то издалека и им было жаль этих юношей и девушек, не сумевших найти в Голливуде другой работы, нежели та, которой они с таким же успехом могли заниматься где-нибудь в Уоксаханки, или в Эванстоне, или в Олбани. Звезды, безусловно, думали, что если именно официантами ребята и хотели стать, то они могли податься куда угодно, ради этого не стоило ехать в Голливуд.
«Браун Дерби» – гласила надпись, и я предпочел перейти на другую сторону улицы: у меня не было ни малейшего желания идти вдоль ресторана, я его терпеть не мог, на дух не переносил всех этих знаменитостей (ведь они были знаменитыми и популярными – а я нет), мне просто дурно делалось от зевак, толпившихся на тротуарах с блокнотиками в руках в надежде на их автограф. Я думал: «Ну подождите же, вы еще будете гоняться за мной, чтобы получить мой автограф, и уже очень скоро». В тот миг мне ужасно недоставало Моны, даже больше, чем весь этот день, потому что, когда я шел мимо ресторана, полного кинозвезд, меня резанула мысль, что я тоже хочу стать звездой, и яснее, чем когда-либо, я понял, насколько это безнадежно, раз я остался один, раз она мне не поможет. «А в том, что я остался один, виновата чертова воровка Дороти, – решил я. – Во всем виновата Дороти. Нужно было хватать Мону, когда она вскочила с кресла, и поскорее уводить из зала суда. По ее лицу я должен был понять, к чему все идет и чем все это закончится».
Мы с Моной отправились в суд поддержать Дороти морально. Она тоже приехала в Голливуд, чтобы показать киношным козлам, на что способна, но блистать талантами ей пришлось в супермаркете, откуда она систематически уносила уйму продуктов. Мы знали, что чуда не произойдет, что на оправдание нечего и надеяться, но рассчитывали, что судья влепит ей месяца три, ну, максимум шесть. Но судья приговорил ее к трем годам лишения свободы в женской тюрьме в Техачапи. Не успел он еще дочитать до конца приговор, как Мона вскочила с кресла и принялась орать, что он подлый мерзавец, палач, и что он порочит всю судебную систему в целом, и что, черт возьми, почему тогда сразу не отправить Дороти на виселицу, чтобы избавиться от нее раз и навсегда?!
Я был так поражен, что не знал, как поступить: я так и остался сидеть, разинув рот. Судья велел задержать Мону и заявил, что арестует ее на тридцать дней, если она не извинится. Ну а за то, что она ему ответила на это, вместо тридцати дней Мона схлопотала шестьдесят. Когда заседание суда закончилось, я пошел уговаривать судью отпустить Мону, но безрезультатно.
И вот теперь я остался один. И все это из-за Дороти; знай я, чем дело кончится, никогда бы Моне не позволил идти на слушание. «Во всем виновата Дороти», – твердил я про себя и в душе ругал ее самыми последними словами, какие приходили в голову, самими гнусными из тех, что помнил со времен, когда местные ребята кричали их белым женщинам, проходившим через наш квартал на работу в бордели для негров. «Вот, Дороти, и ты такая», – бормотал я, сворачивая с Вайн-стрит на Голливудский бульвар. Я был одинок, как крик в пустыне, мне было ужасно плохо, так плохо мне было только, когда Дикси Флайер убил моего пса, но из последних сил я пытался убедить себя, что все равно мне лучше, чем ребятам, с которыми я рос в Джорджии: они женились, наплодили детей, каждый день ходят на службу, раз в неделю получают жалованье и делают все время одно и то же, и так будет всегда, до самой могилы. Никогда у них не будет ни взлетов, ни падений, ни приключений, никогда никто из них не станет знаменит. Они как цветы на пустыре: ненадолго раскроются – и завянут, и обратятся в прах, и сгинут без следа, словно их никогда и не было. «И все равно, – думал я, – все равно мне лучше, чем им». Настроение у меня несколько улучшилось, хотя тоска и чувство одиночества никак не отпускали.
«То, что сейчас испытываю я, – пришло мне в голову, – когда-то должны были испытать и Купер, и Гэйбл, и множество других актеров, и если смогли пережить они – переживу и я. Не будет же это тянуться бесконечно…»
Впереди, над Ньюберри, загоралась и гасла огромная неоновая реклама. Она представляла собой контуры Соединенных Штатов, в углу рекламного щита гасли и снова появлялись слова:
«Все пути ведут в Голливуд – отдохни и расслабься!».
«Все пути ведут в Голливуд – отдохни и…»
«Все пути ведут в Голливуд…»
2
Не помню, который был час, когда я вернулся домой. Поздно, уже за полночь. Все окрестные улицы были безлюдны, в маленьких домиках тихо и темно. В здешних местах не терпят никакого шума и беспокойства; ночью эта часть Голливуда прходила ни кварталы любого маленького городишки. Здесь жили люди, едва вступавшие в мир кино, и отсюда ohi: постепенно пробивались на запад, к земле обетованной – Беверли Хиллз.