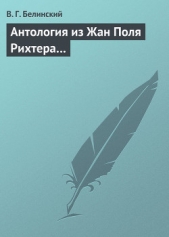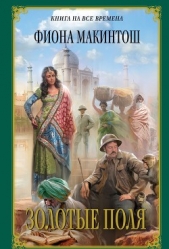Чернозёмные поля

Чернозёмные поля читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Может, кто и знал, ваше благородие. А только нам о том известно не было, — из приличия говорили мужики, не смотря на станового.
— Толкуй там! Знаю я вас, — крикнул Лука Потапыч. — Давно разнюхали, и кто такой, и шёл откуда, и куда шёл, и зачем шёл. Что сидоровой козой прикидываетесь? Ведь не берут в острог. И брехать даром нечего. Я уж их и не спрашиваю, — продолжал Лука Потапыч, обращаясь исключительно к Суровцову. — Пишу для порядка в протокол, что, мол,по спросе соседних жителей оказался неизвестным. А их уж и не трогаю. Всё равно ничего не добьёшься. Знать, мол, не знаем, ведать не ведаем. Одна песня. Потому народ огрубелый, дикий, ну и боится всего. Да и то сказать, — вдруг смягчился тоном Лука Потапыч, — я их в этом не виню. Ведь коли б изволили знать, что только полиция из них прежде выделывала! Уму непостижимо. Жалости никакой; одно только, чтоб корысть. Ну и настращали народ этими самыми «телами» пуще домового. Забыть-то трудно. Всё старое поминается. Верите ли, Анатолий Николаевич, как я ещё служил в Новопольском уезде, тело тоже на самой большой дороге обыскалось, на шляху. Так что бы вы думали? За четыре версты стали свёртывать, прямо по хлебам. Двенадцать вёрст крюку давали. Накатали по овсам такую дорожку, лучше почтовой. Вот и подите с ними! Потому, всяк себя бережёт. А полиции-то нешто нужен народ? Ей абы своё было, — с укоризной закончил Лука Потапыч, переполненный негодованием на преступные вкусы полиции.
Он смотрел на народ из своего тёплого пушистого воротника слегка сконфуженными калмыцкими глазками, состроив губами совершенно невинную и даже умильную улыбку; с такою точно улыбкою лисица крыловской басни объясняла льву пляску рыб на горячей сковородке. Народ тоже молча смотрел на Луку Потапыча, и многие глаза тоже слегка улыбались такою же выразительною, только несколько иною улыбкою.
— Экая эта полиция бедовая! — улыбнулся, не выдержав, Суровцов. с удовольствием художника созерцая эту красноречивую мимическую сцену..
Между тем ребята подрубились довольно глубоко под труп. так что он казался теперь лежащим на каменном пьедестале. Стали подбивать под него ломы, и наконец отвалили всю глыбу.
— Подымай теперь, ребята, давай рочаги! Неси к саням! — командовал Лука Потапыч.
Замёрзшего человека, приросшего к пьедесталу, подняли вверх. Суровцову, глядя на него, вспомнилось мраморное пресс-папье, в котором доска и фигура на ней были вырезаны из одного куска мрамора. Это ужасающее пресс-папье восемь человек подняли и понесли к саням.
— А за голову всё держится: видно, холодно! — пошутил кто-то, когда эта странная коленопреклонённая фигура закачалась на плечах ребят.
Но никто не поддержал шутки. С сдавленным сердцем следили все глазами за этим последним шествием человека, обратившегося в каменную статую. Суровцову сделалось тяжко и гадко на душе. Он сел в санки и тихо поехал прочь.
— Куда везти, ваше благородие? — спрашивал сотский, косясь на Никиту Данилыча, который стоял подле в томительном ожидании.
— А вон в тот хуторок! Пасека это, что ли? — равнодушным голосом отвечал Лука Потапыч, словно не замечая Никиты. — Тело как раз напротив найдено. Куда ж больше?
— Лука Потапыч, помилосердствуйте! — повалился в ноги старик.
— Да что тебе, Никита Данилыч? Чего кланяешься? — с притворным изумлением спрашивал становой.
— Не прикажите срамить на старости лет. Никогда этого сраму со мной не было. Дайте помереть честно, ваше благородие!
— Да ты встань, расскажи толком, старик! — усовещал его Лука Потапыч. — Что ты мне в ноги-то кланяешься? Я, брат, не икона. Человеку грешно в ноги кланяться. Потому, тварь твари поклоняться не должна. Тварь Создателю своему поклоняться должна. А ещё седой человек! Стыдно, брат, Никита Данилыч; при народе скажу, стыдно.
— Ваше благородие! Не позорьте моей седой бороды! Али хуже меня не обыскалось? Мы сами, ваше благородие, послужим. Чем только прикажете. — продолжал валяться старик.
— Да ты говори: твой это хутор, что ли? — помог ему становой. — Ну и давно бы так! Кто ж тебя знал, куда ты забрался! Видишь ведь народ Всё свои расчёты. Чтоб с него подводы не брать, полковых не ставить. Вот и разбрелись по всем болотам, благо место есть.
— Помилуйте, ваше благородие, мы от мирской службы не открещиваемся. Это ещё деды наши хутор ставили. Сто лет, почитай,будет.
— То-то, сто лет! Пасека-то у тебя большая?
— Считать не считаем, ваше благородие, а Бога благодарим. На своё пропитание хватает.
— Спужался старик! — засмеялся плутоватый рыжий мужик, бойко посматривая на станового. — У него, ваше благородие, сот до двух колодок стоит. Старик крепкий.
— Ну уж пожалеть, ребята, старика? — усмехнулся простоватою улыбкой Лука Потапыч. — Бог с ним совсем! Вези в село. А старичок становому парочку колодочек подарит на разживу. За почёт. У тебя-то ещё будет, своя пасека, а мне что перепадёт, то и моё. Я, братцы, мирской человек, не хуже вдова горемычная! — засмеялся Лука Потапыч, с весёлым добродушием поглядывая на мужиков.
И потянулась дальше по хуторам, к селу, печальная процессия. Не один сибирский шаман, развозящий в своих санях деревянного идола для ниспослания обилия в чумы кочевников, позавидовал бы Луке Потапычу, когда он провозил от избы к избе села Прилеп, начиная с самого края, добытую им в далёком поле окаменевшую коленопреклонённую фигуру. Ни один тунгус или корел не чувствовал такого ужаса перед своим безобразным идолом, какой чувствовали бедные прилепские однодворцы при приближении страшной колесницы, на которой лежал ничком на коленях неподвижный человек, закрывающий свою обнажённую голову.
Только на третий день уездный доктор, приехавший с следователем в Прилепы, мог произвести вскрытие трупа. Когда отбили от него землю и оттаяли руки, толпа мужиков, наполнявшая комнату, сразу узнала, кто был замёрзший.
— Лёвка из Пересухи! С мелентьевского двора! — пронёсся по избе тихий, но дружный шёпот. Словно людям было неловко стыдить этим признанием бедного погибшего бродягу, так долго укрывавшего от них своё горемычное лицо.
— Осрамил мою седину, сыночек, — охал Иван Мелентьев, получив скорбную весть. — Жил, как пёс, и умер, как пёс. Без христианского погребения. Ни при дедах, ни при отцах наших того на роду у нас не было, чтобы крещёного человека что борова потрошили. Оплевал мою старую голову!
Выла Арина, выла невестка, оставшаяся вдовою. Она не жалела мужа, он был ей всегда хуже ворога, но она знала приличия; она чувствовала, что это её день, её обязанность плакать и причитывать, и что все должны хоть для виду утешать её. «Нельзя же, всё-таки муж», — говорили промеж себя бабы.
Василий был с Лёвкой дружнее всех. Тяжко у него было на сердце, когда он возвращался пешком из Прилеп, куда следователь требовал его, чтобы признать убитого. Он видел на столе волостной избы синий опухший труп; этот труп был тот самый Лёвка, с которым он ещё так недавно рыскал по лесу за птичьими гнёздами, стерёг жеребят, бродил по полям и болотам. Они оба были тогда беспечными босоногими мальчишками и никто из не думал, что жизнь поджидает их в коварной засаде с позором и горем.
— Опять беда стряслась! — вздыхал Василий. — Кому что, а нам всё горе. Не возлюбил нас Господь. И мне не слаже брата!
Весна
С «Алексея — с гор потоки» четыре раза подходила вода; «весна ноги свесила!» коротко заметил мельник Кудим, когда потекли потоки. Суровцов целые дни проводил на мельнице; он ждал дружной весны и боялся за свою плотину, которую только что справил заново с большим трудом. Но мельник Кудим был старый боец. Он молча щурился на небо, молча поглядывал на широкую пасть Ракитина верха, открывавшуюся прямо в пруд, от прилепских яруг, и ничего не отвечал на беспокойные расспросы своего хозяина.
— Придёт, тогда видно будет! — был у него один ответ.
Четыре раза молча отворял Кудим заставки на обеих скрынях, на холостой и на рабочей, и четыре раза выпускал целиком весь пруд. Но снега были ещё такие, что ни разу суровцовский пруд не мог дойти до пересухинской мельницы, всё заедался в рыхлых снегах, которыми был набит олешник и низкая луговина.