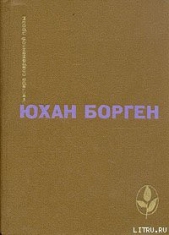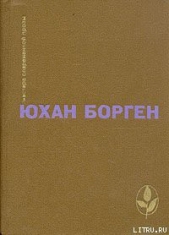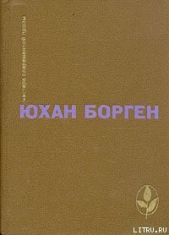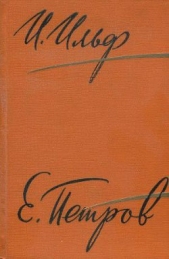Избранное
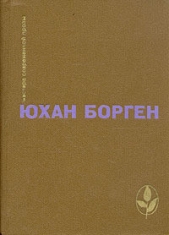
Избранное читать книгу онлайн
В том входят романы, составляющие трилогию о Вилфреде Сагене, которая является вершиной творчества крупнейшего современного норвежского писателя. В ней исследуется характер буржуазного интеллигента-индивидуалиста, постепенно утрачивающего всякие этические критерии. Романы печатаются с небольшими сокращениями.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ярмарка вынырнула из-под чахлых деревьев, с бледными от фабричной копоти листьями, — хилыми, вялыми листьями, тихо покачивавшимися на тонких ветвях. И дети на ярмарке тоже были хилые, вялые — уныло сновали они между фургонами, — у них не было денег на развлечения. Толпа посетителей давно поредела. Владельцы аттракционов без дела слонялись вокруг своих киосков и ширм. Оказалось, это наши старые знакомые. Встретили нас так тепло: как воспитатели — былых воспитанников детского сада. Я не без грусти подумала: «Может, они и есть наши истинные друзья, единственные наши друзья в этом городе, где все лишь мелькают, проносятся мимо друг друга».
В одном месте одиноким, покинутым чудовищем высилась карусель. Она стояла между деревьев, пустая, будто окостеневшая в своем одиночестве. Вздыбленные кони, коровы, зебры большими печальными глазами смотрели на нас под ожерельем огней. Краска облупилась с величественных лебедей, что, взмахнув крыльями, взлетали над сиденьями, заслоняя клиентов от посторонних глаз. Лебеди всегда привлекали влюбленных — жителей здешних окраин: примостившись в колясках между крыльями, скрытые от взглядов людей, они взасос целовались под музыку карусели. Лебеди были нарасхват.
Но сейчас опустели и эти коляски. Карусель с пустыми сиденьями крутилась, еще и еще, в надежде зазвать публику. Наконец она остановилась со стоном, со скрежетом в старом, изъезженном механизме. Словно всему этому вертящемуся зоопарку впору было погрузиться в спячку где-то вдали от городской суеты, чтобы по весне восстать от сна и вновь вывести на парад сверкающих свежей краской лебедей, похотливых жеребцов и всех этих печальных животных, пахнущих свежим лаком, который всегда прилипает к одежде первых посетителей ярмарки.
Вилфред взглянул на меня:
— Прощальный круг!
Но я не хотела и не могла себя заставить. Рядом стояла девчушка лет пяти, тщедушная, в красном бумажном платьице. Вилфред взглянул на меня, на нее: если я ничего не имею против…
Господи, если уж он настолько сентиментален…
Девчушка обернулась к нему сперва растерянно, изумленно, потом просияла, но тут же нахмурилась: с опасливостью пролетарского ребенка она не верила в нежданный подарок.
Он покорил ее за один миг. Худенькое детское личико будто налилось соком, глазки заблестели. Она улыбнулась ему, потом — несмело — мне, потом — снова ему. Неужто это правда? Да, правда. Бережно взяв девочку за руку, Вилфред подвел ее к сказочному оленю. Но олень не пришелся ей по душе. Она оглянулась кругом, цепенея от муки выбора. Вилфред осторожно спрашивал:
— Хочешь корову? Нет? Лебедя? Автомобиль?
Она выбрала коня, блестящего, ослепительного коня, свежевыкрашенного, сверкающего в ряду других коней, как новый золотой зуб во рту. Наверно, старый конь рухнул под тяжестью многих тысяч ребячьих тел, и хозяин вывел из конюшни и поставил на карусель нового…
Вилфред осмотрелся кругом. Хозяин карусели куда-то ушел. Устав от безделья, он, видно, отправился в ближайшее кафе пропустить стаканчик живительного. Но Вилфред знал, как завести карусель. Войдя под маленький балдахин, скроенный из потрепанной занавески, он запустил чудовище. Он вышел из-под балдахина в самый раз, чтобы успеть вскочить в седло. Под ним оказался олень, отвергнутый девчушкой…
Одинокое чудовище странным образом казалось еще более одиноким, заброшенным с этими двумя, столь разными пассажирами, кружившимися сейчас в свете фонариков.
Еще и теперь, стоит мне захотеть, — а сколько раз против воли, — передо мной возникает эта картина: карусель и на ней, на фоне ясного осеннего неба, два всадника — худенькая, длинноногая девчушка, и верхом на олене — Вилфред, странно возбужденный, с застывшей улыбкой. Карусель вертелась все быстрей и быстрей. Вот уже второй раз они промчались мимо меня, в третий… На лице девчушки все ярче расцветало блаженство, счастье, торжество, она весело кричала что-то своим друзьям — ребятишкам, следившим за ней с пригорка.
В четвертый раз промчались они мимо: девчушка на своем ослепительном жеребце, гордо запрокинув головку, за ней Вилфред на своем облезлом сказочном олене. Я видела, как карусель набирает ход. Но что-то как раз тогда отвлекло меня, и я на миг отвернулась в сторону. Я заметила лишь, что девчушка, не в силах сдержать восторг, повернулась на своем жеребце, очевидно, что-то крикнула Вилфреду…
Потом был вопль — вопль детей, но и взрослых тоже… И по-прежнему грохотала музыка, гремела и грохотала, а потом резко стихла…
Я выбежала вперед. На деревянном настиле, под застывшими в неподвижности конями, будто мертвец, лежал Вилфред. Руки его были где-то под балдахином, скрывавшим заводной механизм. Он не кричал — кричали другие: публика, дети, взрослые. Откуда их столько набежало сюда?..
Упавшая девчушка вскочила на ноги и вышла из-под коня… А он по-прежнему лежал не шевелясь…
Он не кричал, не издавал ни звука. И все знали, что случилось с ним; оказывается, они все видели и готовы были рассказать. Все видели, кроме меня. Они видели, как девчушка верхом на коне повернулась, закачалась и упала, видели, как Вилфред спрыгнул с оленя и подхватил ее в тот самый миг, когда подол ее платьица попал в мотор карусели. Все видели это.
Но я помогала высвобождать его тело из-под мотора. Пришлось вытаскивать его осторожно. Руку его придавило колесом — острым, жестким железом, еще и сейчас издававшим скрежет.
Я помогала, и вот мы вытащили его. Но правая его рука утопала в крови, превратилась в месиво из крови и лохмотьев пиджака, и в ней торчал маленький острый кусок железа. Вилфред был в сознании. И смотрел мне прямо в глаза. Он не сказал ни слова. Но улыбнулся мне.
Всегда ли только задним числом свершившееся представляется игрой судьбы, предопределенной каким-то высшим началом? Всегда ли только потом вырисовывается взаимосвязь?..
Дни счастья моего… все, что привело их к концу, было связано между собой точно кусочки мозаики!..
Картины — как забыть тот первый раз, когда я увидела их, — всю их громадность, извращенную громадность, и его страсть, знакомую восторженную страсть к извращенному, к разрушению естественных форм жизни и природы… И мое восхищение его руками, особенно правой рукой, столь искусной и ловкой. И вдруг она изуродована, разрушена — и она тоже…
Он и прежде твердил мне: надо спасать детей. Он страдал за них. Когда-то, так он мне рассказал, был ребенок, он упал, его не уберегли. Все дети падают — это у него была навязчивая идея. И всегда должны найтись руки, чтобы подхватить ребенка — спасти.
Мне претило разрушение… Не поэтому ли он прятал от меня в больнице свою перевязанную руку? Он всякий раз быстро прятал ее от меня, превозмогая боль, я видела это. Но он не хотел моей жалости, а в один прекрасный день не захотел, чтобы я приходила.
Сам он себя не жалел. Беда не ожесточила его. Он был теперь спокойней, чем когда бы то ни было раньше. Он прочитал в газете о новых усилиях, предпринятых художниками всего мира ради спасения франка. Но он не стал участвовать в распродаже картин, хоть его и пригласили. Наверно, за это время узнал из газет о том, как приняли его громадные холсты в Норвегии. Я тоже читала об этом, и мне было невыразимо больно за него. Но я уже не могла ему этого сказать. Он прислал мне письмо, написанное левой рукой. В нем говорилось лишь о моих лондонских гастролях. Вилфред хвалил своеобразные произведения англичан. Он написал мне: «Прощай!» И подчеркнул это слово.
Сейчас я сижу в его комнате, в доме на Пилестреде. Я жду его. Он не знает об этом. Но он придет. Потому что я хочу, чтобы он пришел. Должен же человек наконец найти путь, даже если он заблудился. Как далеки теперь дни моего счастья, хотя двадцать лет они живут во мне, и столько раз обдуман каждый миг… Двадцать лет. Но, кажется, все это было вчера. Ничего не изменилось с тех пор. Я даже не состарилась. Люди, которым не для кого жить, долго не старятся.