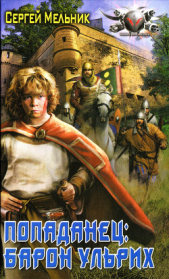Альбер Саварюс
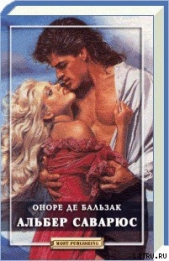
Альбер Саварюс читать книгу онлайн
Розали дважды прочла это письмо; его содержание запечатлелось в ее памяти. Ей внезапно стало известно прошлое Альбера; быстрый ум помог ей разобраться в подробностях его жизни, которую она знала теперь всю. Сопоставив признания, сделанные в письме, с рассказом, напечатанным в журнале, она постигла тайну Альбера целиком.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нет, дорогая, не езди в Милан, останься в Бельджирате. Милан пугает меня. Не люблю этой ужасной миланской привычки болтать по целым вечерам в La Scala с дюжиной мужчин, каждый из которых должен сказать тебе какую-нибудь любезность. По-моему, одиночество подобно куску янтаря, внутри которого бабочка сохраняется вечно, в неизменной красоте. Лишь в одиночестве душа и тело женщины остаются чистыми и молодыми. Или ты жалеешь, что не увидишь этих tedeschi? [19]
Когда же скульптор кончит твой бюст? Мне хотелось бы, чтобы ты была у меня, воплощенная и в мраморе, и в красках, и в миниатюре, словом, по-разному, это обманет мое нетерпение. Ожидаю присылки вида Бельджирате в полдень и вида галереи; это все, чего мне не хватает. Я так занят, что сегодня ничего не могу написать тебе. Но это „ничего“ — все. Разве бог не создал мир из ничего? Это „ничего“, это слово, божественные слова: „Люблю тебя!“.
Получил твой дневник. Спасибо за аккуратность! Значит, тебе доставило удовольствие описание нашего знакомства, сделанное в такой форме? Увы, маскируя подробности, я все же боялся тебя оскорбить. У нас совсем не было повестей, а журнал без повести — все равно, что лысая красавица. Не будучи от природы находчивым, я взял единственный поэтический случай, запечатлевшийся в моей душе, единственное приключение, хранящееся в моей памяти, и придал ему форму рассказа; я не переставал думать о тебе, пока писал это единственное литературное произведение, вылившееся не столько из-под пера, сколько из сердца. Позабавило ли тебя превращение сурового Сормано в Джину?
Ты спрашиваешь, как мое здоровье? Гораздо лучше, чем в Париже. Хотя я страшно много работаю, но спокойная обстановка благотворно действует на меня. Дорогой мой ангел, больше всего утомляют и старят муки обманутого тщеславия, вечное возбуждение парижской жизни, борьба соперничающих честолюбий. Спокойствие действует, как бальзам. Если бы ты знала, сколько радости доставило мне твое письмо, твое славное, длинное письмо, где ты так хорошо описываешь мельчайшие подробности своей жизни! Нет, вы, женщины, никогда не поймете, как все эти пустяки интересуют человека, который по-настоящему влюблен. Образчик материи твоего нового платья также доставил мне огромное удовольствие. Разве мне безразлично, как ты одеваешься? Часто ли хмурится твой высокий лоб? Развлекают ли тебя наши писатели? Приводят ли тебя в восторг стихи Каналиса? Я читаю те же книги, что и ты. Все, даже описание твоей прогулки по озеру, растрогало меня. Твое письмо так же прекрасно, так же нежно, как и твоя душа. О мой небесный, вечно обожаемый цветок! Как я мог бы жить без этих писем, дорогих моему сердцу, уже одиннадцать лет поддерживающих меня в трудном пути, словно свет, благоухание, стройное пение, изысканная пища, — все, что утешает и пленяет в жизни! Пиши мне аккуратно! Если бы ты знала, как я томлюсь накануне того дня, когда должен получить твое письмо, и как мне больно, когда оно опаздывает хотя бы на один день! „Не заболела ли она? Не болен ли ее муж?“ — думаю я. Мне кажется тогда, что я не то в аду, не то в раю, я теряю рассудок. О mia cara diva, продолжай заниматься музыкой, развивай голос, учись! Я в восторге, что благодаря сходству нашего времяпрепровождения мы живем совершенно одинаковой жизнью, несмотря на то, что нас разделяют Альпы. Эта мысль и радует и ободряет меня. Я еще не сказал тебе: впервые выступая в суде, я старался вообразить, что ты меня слушаешь, и внезапно почувствовал вдохновение, возвышающее поэта над толпой. Когда меня выберут в Палату, ты приедешь в Париж, чтобы присутствовать на моей первой речи.
Боже мой, как я тебя люблю! Увы, я слишком много вложил и в свою любовь и в свои надежды. Если этот слишком тяжело нагруженный корабль случайно опрокинется, то это будет стоить мне жизни. Вот уже три года, как я не видал тебя, и при мысли о поездке в Бельджирате сердце начинает биться так сильно, что я вынужден останавливаться… Видеть тебя, слышать твой по-детски ласковый голос! Взглянуть на твое лицо, белое, как слоновая кость, такое ослепительное при свечах! Угадывать твои благородные мысли, любоваться твоими пальчиками, касающимися клавиатуры, ловить твою душу в брошенном на меня взгляде, в оттенке голоса, когда ты восклицаешь „Oime!“ или „Alberto!“. Гулять с тобой под цветущими апельсиновыми деревьями, прожить несколько месяцев на лоне этой дивной природы! Вот в чем жизнь! О, какой вздор — вся эта погоня за властью, именем, успехом! Ведь все — в Бельджирате: и поэзия и слава! Мне следовало бы сделаться твоим управляющим или, как предлагал этот добрейший тиран, которого мы никак не можем возненавидеть, жить у вас на правах твоего „чичисбея“, чего, однако, наша пылкая страсть не могла дозволить. Неужели твой герцог — итальянец? По-моему, он сам бог-отец, и вечен, как он! Прощай, мой ангел! Тебе придется простить мне уныние следующих писем за эту веселость, этот луч, кинутый факелом надежды, казавшимся до сих пор блуждающим огоньком».
— Как он любит ее! — воскликнула Розали, уронив письмо, точно оно было непомерно тяжелым. — Писать так через одиннадцать лет!
— Мариэтта, — шепнула Розали служанке на другое утро, — снесите это письмо на почту и скажите Жерому: я узнала все, что мне нужно было знать, пусть он по-прежнему верно служит своему хозяину. Мы исповедаемся в грехах, не упоминая о том, чьи были письма и кому посылались. Я скверно поступила и одна виновата во всем.
— Вы плакали, мадемуазель? — заметила Мариэтта.
— Да, я не хотела бы, чтобы моя мать заметила это, дайте мне холодной воды.
Хотя душу Розали и обуревала страсть, но все же она часто слушалась голоса совести. Тронутая поразительной верностью двух сердец, она ходила в церковь и говорила себе, что ей остается только покориться и щадить счастье двух людей, достойных друг друга, послушных судьбе, всего ждущих только от бога, не позволяя себе греховных поступков и желаний. После этого решения, внушенного чувством справедливости, свойственным ее возрасту, Розали показалось, что она стала как будто лучше, и она даже испытала в глубине души некоторое удовлетворение. Ее воодушевляла мысль, могущая прийти в голову только молодой девушке: принести себя в жертву ради него!
«Она не умеет любить, — думала Розали. — Если бы я была на ее месте, я бы всем пожертвовала ради человека, так горячо любящего меня. Быть любимой! Когда и кто меня полюбит? Этот жалкий де Сула любит только мое богатство; если бы я была бедна, он не обращал бы на меня ни малейшего внимания».
— Розали, о чем ты мечтаешь? Ты сделала лишний ряд стежков! — сказала баронесса (Розали вышивала туфли для отца).
Всю зиму 1834 года Розали провела в беспрерывном тайном волнении; весной же, в апреле, когда ей исполнилось восемнадцать лет, она начала подумывать, что неплохо было бы одержать верх над герцогиней д'Аргайоло. В одиночестве (ей не с кем было слово молвить) перспектива этой борьбы вновь разожгла ее страсть и дурные мысли. Мадемуазель де Ватвиль отдалась своему романтическому безрассудству и строила планы за планами. Хотя такие характеры редки, но все же, к несчастью, есть немало таких Розали, и эта повесть должна послужить им уроком.
В течение этой зимы Альбер де Саварюс мало-помалу добился в Безансоне больших успехов. Уверенный в удаче, он с нетерпением ожидал роспуска Палаты. Он привлек на свою сторону в числе других представителей партии центра одного безансонского дельца, богатого предпринимателя, пользовавшегося большим влиянием.
Римляне всюду затрачивали массу труда и денег, чтобы во всех городах их империи имелось вволю хорошей питьевой воды. В Безансоне они пользовались источниками Арсье, горы, расположенной на довольно большом расстоянии от города. Безансон находится внутри подковообразной излучины, образуемой рекой Ду. Нелепо было восстанавливать римский акведук для того лишь, чтобы провести в город, орошаемый рекою, ту самую воду, какую пили римляне; такая нелепость может иметь успех лишь в провинции, где ко всему относятся донельзя серьезно. Эта причуда, прочно засевшая в умах безансонцев, была сопряжена с большими издержками, небезвыгодными для нашего влиятельного лица. И вот Альбер Саварон де Саварюс установил, что Ду годится лишь на то, чтобы протекать под мостами, а для питья непригодна никакая другая вода, кроме источников Арсье. В «Восточном Обозрении» по этому поводу появились статьи; впрочем, они лишь выражали мнение безансонских торговых кругов. Дворяне и буржуа, партия центра и легитимисты, сторонники правительства и оппозиционеры — все сошлись на желании пить воду римлян и иметь висячий мост. Вопрос о воде из Арсье стал у безансонцев злободневным. В этом случае, так же как и тогда, когда решался вопрос о проведении версальской железной дороги и другие вопросы, вызвавшие в наше время злоупотребления, в Безансоне кое у кого нашлись скрытые интересы, придававшие этой затее чрезвычайную живучесть. Благоразумных людей, выступавших против этого проекта — впрочем, таких нашлось немного, — называли тупицами. Все только и говорили, что об этих двух планах адвоката Саварона.