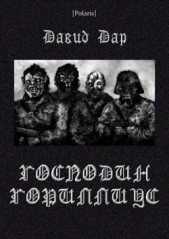Приятели
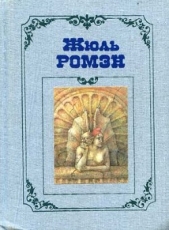
Приятели читать книгу онлайн
В посвящении Жюль Ромэн адресует свое произведение «Обществам и Собраниям молодых людей, которые, в разных краях, оказали этой книге честь принять ее в качестве Наставления к Веселию и Требника Шутливой Мудрости».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но вот они попадают в спертую область, где шум становится болью.
Они неожиданно оказываются у выхода на запруженную площадь. На каком-то фасаде светится циферблат; за кровлей синеет небо. Играют горны. Пальба, бывшая цельным куском, ломается, крошится, уничтожается.
Горны играют снова. Голоса командуют. Какая-то масса разом двигается. В глубине площади образуется пустота, словно в трубке насоса. Толпа из обеих улиц со свистом всасывается туда. Но обе улицы, в свою очередь, всасывают остальной город. Человеческое множество скопляется, разветвляется, течет, сливается. Амбер существует вдруг.
VI
АМБЕР, ОХВАЧЕННЫЙ СТРАСТЬЮ
Священник кончил бормотать недельное расписание служб.
Он помолчал, потом уже другим голосом:
— Возлюбленные братья…
Приникшая было аудитория встрепенулась.
— Возлюбленные братья, сегодня я буду лишен отрады продолжить с вами наши воскресные собеседования, вошедшие у нас в благочестивое обыкновение. По правде сказать, если я сожалею об этом, то сожаление мое — чисто эгоистическое. Помышляя о благе ваших душ и о деле вашего спасения, я, напротив, радуюсь, что вам дано будет услышать голос, более красноречивый и более к тому призванный, нежели мой.
Приготовьтесь, братья, к приятной неожиданности. Отец Латюиль, выдающийся оратор и ученый богослов, наперсник князей церкви и друг великих мира, отец Латюиль среди нас.
Еще вчера мы не знали, что он вернулся из Рима.
Еще вчера мы думали, что он в Вечном Городе, а он уже вступал в административный центр нашего округа. Кто мог думать, что он вдруг свернет с дороги, что он преодолеет высокую ограду наших гор, чтобы бросить в наши души долю доброго семени, которое он полной горстью почерпнул в лоне самого Пия Десятого? Поэтому вы поймете, каково было наше удивление и наше смущение, когда сегодня утром он почтил нас своим посещением и выразил желание сказать слово во время главной мессы. Конечно, нам бы хотелось, дабы оценить такое внимание и воспользоваться им в полной мере, устроить собрание всех прихожан, известив их изустно и путем объявлений. Те из них, которые в неведении о столь приятном событии присутствовали на первых мессах, быть может подосадуют, что мы справили без них это духовное пиршество. Но время отца Латюиля слишком драгоценно, и мы не посмели просить его о некоторой отсрочке.
Возлюбленные братья, в ваших глазах отражается все ваше нетерпение. Я не стану его обострять. Но прежде чем покинуть эту кафедру и уступить место нашему гостю, я попрошу вас преисполнить ваши души особым вниманием и особым рвением. Вы услышите чистое римское учение, самый голос наместника святого Петра. С вами поделятся самыми задушевными наставлениями Верховного Первосвященника, самыми любимыми, я бы сказал даже — самыми тайными его помыслами. Как и я, вы смущены оказываемою вам честью. Но я уверен, что вы проявите себя достойными ее.
Священник скрылся на лестнице кафедры, как в спирали «веселого желоба». На одну минуту аудитория была предоставлена самой себе.
Отца Латюиля ждали страстно: посреди церкви образовалась втягивающая пустота. Аудитория жаждала отца Латюиля; аудитория повисла на кафедре, словно поросенок, который тискает, кусает и теребит вымя.
Отец Латюиль сочился медленно. Его еще не было видно, но чувствовалось, что он идет; и мало-помалу он стал зрим; череп, лицо, шея, грудь, пояс. У него были пышные волосы, борода, коренастое туловище; что касается роста, то на вид он был скорее невысок. Одежда на нем была монашеская, но какого ордена? Никто не мог сказать. Доминиканского? Францисканского? Ораторианского?
Отец Латюиль положил левую руку на бархатный край кафедры; перекрестился, пошевелил губами. Думали, что он молится.
На самом деле он обращался к самому себе с таким увещанием:
— Бенэн, старина! Теперь шуткам конец. Ты как пловец на краю доски. Сейчас ты нырнешь и, смотри, не отправься к рыбам!
Он посмотрел перед собой.
— Хоть бы увидеть, где наша компания! Это придало бы мне духу!
Но он ничего не мог различить. На некотором расстоянии от его глаз стоял туман. Или, вернее, он видел только массами, только цельными кусками. Не то, чтобы подробности исчезали совсем; но они утрачивали свой прямой смысл; Бенэн их не опознавал.
Правда, в нижнем пространстве что-то расстилалось.
Он сказал бы, что это спина животного, однообразно зернистая и пузырчатая кожа. Обращенные к нему лица он принимал за какие-то сосочки, налившиеся жидкостью.
Но это смутное созерцание не могло длиться. Нужны были слова.
Бенэн начал, неуверенным голосом, который понемногу окреп.
— Братья мои, господь наш Иисус Христос где-то сказал: «Кто может вместить, пусть вместит». Таинственное слово! Волнующее слово! За девятнадцать столетий, что наука мудрых пытается уразуметь божественные заповеди, они стали нам привычны по звуку, но мы не в праве сказать, что они нам не чужды по смыслу.
Из всех духовных богатств, которые я собрал за время своего долгого пребывания в Риме, нет ни одного, которое я ценил бы выше, нежели тесное и постоянное общение с живою мыслью церкви. Именно там я почувствовал, как заблуждаются наши противники, когда они упрекают католическую веру в том, что она коснеет в неподвижности, когда они полагают, будто мы застыли и словно окаменели все в тех же воззрениях, все в тех же навыках.
И, конечно, я признаю, что это предубеждение может быть до некоторой степени оправдано, если иметь в виду иных верующих, которые скорее заняты внешним соблюдением, нежели заботятся о внутреннем постижении. В частности, мне кажется, что робкое благоразумие, мелочная рутина как в области веры, так и в отношении дел, стали обычным явлением во многих уголках французской провинции, которые затрудненностью сношений и скудостью идейного обмена, правда, ограждены от опасной заразы и преходящих увлечений света, но зато и отдалены от того, что я бы назвал круговращением истины и биением жизни.
Последние слова Бенэн произнес, широко раскинув руки; потом он сделал паузу. Он вполне владел собой. Он уже не плавал в сомнительном тумане; он чувствовал, как вокруг него встает какое-то легкое и воспламенимое воодушевление, которое смешивается с его дыханием и проникает в самый его мозг.
В аудитории он уже различал области. Он чувствовал, что в разных местах у нее неодинаковый состав и неодинаковое сопротивление.
Прямо напротив мягкая, вялая часть, поглощавшая слова по мере того, как они произносились, хотя, по-видимому, равнодушная к ним, но важная по своему положению и требовавшая особого усилия.
Ближе и словно ниже, вокруг кафедры, до странности неблагодарная и строптивая зона. Мысль, падая на нее, издавала сухой звук.
Дальше, налево, в сторону входа, немного неясная, довольно покорная масса, способная к брожению, но пока что, по-видимому, испытывавшая чувство зависимости и подчиненности.
Направо, в сторону хора, небольшая по объему, но связная часть, издававшая полный звук, приятная на ощупь.
Бенэн продолжал:
— Таким образом, возлюбленные братья, особенно в новые времена и после прискорбных смут Реформации, христианская мысль и христианское дело в нашей стране оказались словно загипнотизированными некоторыми нравственными проблемами, я бы сказал даже — некоторыми вопросами обычая, несомненно заслуживающими внимания, но едва ли настолько важными, чтобы привлекать, поглощать, приковывать все наши силы. Эти вопросы столь частного порядка стали чуть ли не стержнем всей религиозной жизни. Ради них пренебрегли более важными заботами, оставили невозделанной гораздо более обширную духовную область.
При этом, поступая так, христиане, которых я имею в виду, ни секунды не сомневались, что они верны учению Христа. Даже сознавая, что они противятся глубокому голосу природы, они утешались мыслью, что соблюдают прямую волю создателя.
Выразим точнее нашу мысль. Никто не станет спорить, что в противность большинству других религий — язычеству, исламу, брахманизму… современный католицизм рассматривает нечистоту или то, что называют этим именем, как основной грех, а чистоту — как самую, быть может, драгоценную, самую небесную добродетель, благоухание которой всех угоднее богу. Хоть и не отнесенная к числу богословских добродетелей, она ставится не ниже их, и мой опыт духовника позволяет мне утверждать, что многие девицы зрелого возраста легко прощают себе почти полное отсутствие милосердия ради непорочности своего тела. Бенэн снова оглянул аудиторию; он увидел ее во всех подробностях.