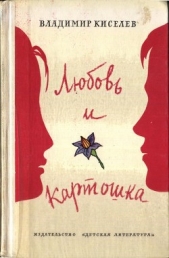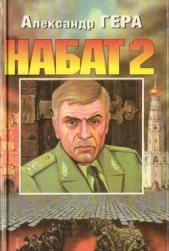Любовь и педагогика
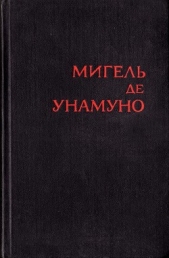
Любовь и педагогика читать книгу онлайн
Замысел романа «Любовь и педагогика» сложился к 1900 году, о чем свидетельствует письмо Унамуно к другу юности Хименесу Илундайну: «У меня пять детей, и я жду шестого. Им я обязан, кроме многого другого, еще и тем, что они заставляют меня отложить заботы трансцендентного порядка ради жизненной прозы. Необходимость окунуться в эту прозу навела на мысль перевести трансцендентные проблемы в гротеск, спустив их в повседневную жизнь… Хочу попробовать юмористический жанр. Это будет роман между трагическим и гротескным, все персонажи будут карикатурными».
Авито Карраскаль помешан на всемогуществе естественных и социальных наук. Еще будучи холостяком, он собирается «по науке» выбрать себе жену, затем «научно» воспитать ребенка – и ребенок неминуемо станет гением…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сегодня, когда Аполодоро шел на беседу с доном Фульхенсио, он увидел, что дверь открыта, прошел по коридору и остановился у входа в святилище. Он поступил нехорошо, но… что это? Дон Фульхенсио – ну да, он – обнял донью Эдельмиру за полную талию, а другой рукой треплет ее подбородок. Зрелые формы почтенной матроны дышат молодостью, парик блестит.
– Ты, ты одна поверила в мою гениальность, Мира! – И философ привлекает ее к себе.
– Да, ты такой добрый гений, такой мирный, ласковый…
– Какие у тебя золотистые волосы!
Рука его гладит парик.
– Не насмехайся! – возражает она, причем лоб ее, розовеет.
– Над чем? Над тем, что они искусственные, накладные? А разве сами мы не суррогаты, которые можно менять один на другой?
Тут философ целует жену.
– Тридцать лет, Фульхе, тридцать лет!
– Да, Мира, тридцать лет. – И, обнимая ее, он спрашивает: – Ты помнишь?
Остального Аполодоро не услышал, потому что донья Эдельмира вдруг поднялась с кресла, воскликнув: «Кто там?», и ему пришлось войти, сгорая от смущения. Вот почему философ сегодня не произвел на Аполодоро особого впечатления, и снится ему теперь не он, а донья Эдельмира.
Отец велел сыну, чтобы тот письменно изложил свое миропонимание, но, как Аполодоро ни ломает голову, ничего у него не получается. Прежде всего, разве у него есть уже какая-нибудь концепция этого самого мира? Какая тут может быть концепция, если он только начинает различать его запахи?!
И вот он отправляется – очень уж день хорош! – по бульвару к реке, продолжая озабоченно размышлять о своей концепции. Ясный и теплый весенний день; в лучах солнца зеленеет нежный пух лопнувших тополиных почек; река сияет; над головой – безупречная синева небесного океана, лишь на западе полоской пены проступают легкие облачка; воздух густо напоен весенними запахами. Юноша садится в траву, над которой носится пух одуванчиков. На другом берегу каменная поросль города (тоже весенняя) с колокольнями и капителями отражается в зеркальной глади спокойной реки на фоне сияющей лазури, так что река кажется продолжением неба, а двойное изображение города – фризом, выгравированным на небесно-голубом мраморе и покрытым глазурью. Все вместе напоминает открытую книгу. Аполодоро вспоминает, как в детстве он вместе с товарищами в отрывал головы у мух и расплющивал их в сложенном листе бумаги, чтобы получилась симметричная фигура как в калейдоскопе. Сейчас он смотрит на отраженные в воде тополя и вспоминает стихи Менагути;
Душа Аполодоро погружается в этот мираж, тонет в нем; юноша дышит и не дышит; сияющая лазурь не имеет никакой надписи па тыльной стороне, которой не видно, потому что ее вообще нет. Это сон, прекрасный сон! Аполодоро видит сон с открытыми глазами, и душа его распахнута навстречу видению весны!
Вдруг он ощущает замирание в груди, поворачивает голову, и его обжигает огнем, полыхнувшим из-под ресниц, он видит две русые косы и стройную фигурку. Сердце бьет тревогу, что бы это значило? Вернувшись домой, Аполодоро принимается лихорадочно обдумывать свою концепцию вселенной, но в конце концов оставляет ее и берется за сочинение стихов.
– Что это, стихи? Стишки, сын мои?! – восклицает отец, застигнув сына за этим занятием, и, не получив ответа, добавляет: – Что ж, надо все попробовать; как попытка – куда ни шло!
– Разве нет гениев среди поэтов?
– Были, друг мой, были в те времена, когда люда прислушивались исключительно к тому, что им преподносилось в стихах, но современный гений может быть только социологом, а поэзия – это промежуточный вал искусства, преходящий… Ну, а как твоя концепция вселенной?
– Подвигается понемногу.
Но правду скрыть не удается: дон Авито все-таки натыкается на книги, рисунки, гравюры, заметки и раскрывает рот от изумления, он ничего не понимает. А Марина, мать, бедная сонная Материя, говорит в момент пробуждения:
– Наш мальчик влюблен.
– Влюблен? Мой сын влюблен? Глупости! Не может быть…
Но, видя печальную улыбку на лице тихой, немногословной матери, спрашивает:
– Ты что-нибудь знаешь?
– Я? Нет…
– Так откуда же?…
– Да по нему сразу видно! Чему же еще тут быть?
– Ты это видела, должно быть, в твоем сомнамбулическом сне! Что за чушь! Влюбиться в его возрасте?! Он-только-только созрел!..
А персональный бес: «Ты пал, а раз ты пал, падет и он, и все падут, и будете вы падать без конца».
Авито задумывается и в конечном счете приходит к убеждению, что нет дыма без огня, и тогда он решает дать смертный бой, чтобы спасти гения. При этом он чувствует прилив возмущения: Марина раскрыла секрет раньше его, это она произвела на свет сына, способного влюбиться в таком раннем возрасте, она некогда заставила влюбиться и его самого. Любовь! Вечно эта любовь становится на пути великих свершений! Сколько времени потратило человечество впустую на эту треклятую любовь! В случае с Аполодоро это и понятно: он сын своей матери, разве она не влюбилась в свое время в него, Авито? Ведь если хорошенько подумать, она, в сущности, влюблена в него и теперь!
Карраскалю не терпится пойти к дону Фульхенсио:
– Он влюбился!
Отец гения ожидал услышать все, что угодно, кроме флегматичного ответа философа:
– Это естественно!
– Да, не спорю, но…
– Что – но?
– Это неразумно!
– Природа превыше разума.
– Но ведь разум должен подчинить себе природу.
– Разум порожден природой.
– Однако природу надлежит образумить.
– То воля рока, – сухо ответствует дон Фульхенсио, раздраженный тем, что на этот раз дон Авито ему возражает.
– А что есть против рока?
– Сам же рок!
– Влюбился, влюбился, влюбился! Не будет у нас никакого гения…
– Разве гении не влюбляются?
– Конечно, нет. Гении не может влюбиться.
– А впрочем, откажитесь вы от задачи сделать из него гения, в самый раз будет, если мы воспитаем в нем талант.
– Подумать только, влюбился! А что по этому поводу говорит педагогика?
– Скажите-ка мне, друг мой Карраскаль, юноша влюблен абстрактно или конкретно?
– А в чем тут разница?
Карраскаль заранее поднимает брови, ожидая чего-нибудь потрясающего.
– Я хочу знать, влюблен ли он в какую-то определенную девушку или женщину во плоти, или же его тянет к женщине вообще?
– Как это вообще?
Карраскаль ошалело глядит на философа.
– Очень просто, вообще. Любовь, друг мой, не индуктивна, а дедуктивна, она движется не от конкретного к абстрактному, а, наоборот, спускается от абстрактного к конкретному, ее вернее определил Платон, чем Аристотель, она начинается с любви к женщине вообще и в каждой особи воспринимает только вид; конкретизация, по-видимому, приходит много позже… Я говорю «по-видимому», ибо в реальной действительности она полностью конкретизируется только в чувствах героических, исторических, ставших легендарными, в них абстрактное получило свое абсолютное воплощение: Джульетта, Беатриче, Дидона, Исабель де Сегура, Шарлотта, Манон Леско [26]– это всё конкретные воплощения абстрактной идеи…
«Хорошенькое дело! – говорит Карраскалю персональный бес, а на улице еще поддразнивает его: – Влюбился! Влюбился! А что, если конкретно?»
X
Любовь Аполодоро действительно прошла стадию конкретизации. Случилось это в доме учителя рисования, где Аполодоро вместе с другими юношами оттачивал свой талант.
Дон Эпифанио, добрый по натуре человек, из которого, по мнению многих, мог бы получиться великий художник, привязался к юноше. Поправляя ему рисунок, он обычно говорит: