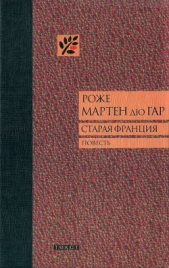Семья Тибо, том 1
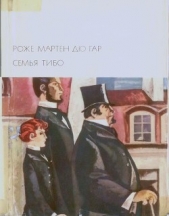
Семья Тибо, том 1 читать книгу онлайн
Роман-эпопея классика французской литературы Роже Мартен дю Гара посвящен эпохе великой смены двух миров, связанной с войнами и революцией (XIX — начало XX века). На примере судьбы каждого члена семьи Тибо автор вскрывает сущность человека и показывает жизнь в ее наивысшем выражении жизнь как творчество и человека как творца.
Перевод с французского М. Ваксмахера, Г. Худадовой, Н. Рыковой, Н. Жарковой.
Вступительная статья Е. Гальпериной, примечания И. Подгаецкой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Войдя, Жак не произнес ни слова, казалось, он даже не заметил, что комната погружена во мрак, и устало рухнул на стоявший у двери стул. При неярких отсветах огня в печурке трудно было уловить выражение его лица. Шляпа была низко надвинута на глаза, пальто он перебросил через руку.
Вдруг он жалобно произнес:
— Оставь меня здесь, Антуан, уходи, оставь меня! Я уже совсем было решил не возвращаться сюда… — Но прежде чем Антуан успел открыть рот, он крикнул: — Молчи, молчи же, я знаю, не смей ничего говорить. Я уеду с тобой.
С этими словами он поднялся и зажег свет.
Антуан старался не смотреть на брата. Для вида он с удвоенным вниманием погрузился в чтение.
Жак вяло бродил по комнате. Бросил какие-то вещи на кровать, открыл чемодан, сунул в него белье и еще что-то. Временами он начинал насвистывать: все тот же мотив. Антуан наблюдал, как брат швырнул в огонь пачку писем, как подошел к стенному шкафу, уложил на полку разбросанные бумаги и запер его на ключ. Потом уселся в углу и, ссутулясь, втянув голову в плечи, то и дело нервно отбрасывая непокорную Прядь, нацарапал несколько открыток, положив их себе прямо на колено.
Сердце Антуана упало. Скажи Жак просто: "Прошу тебя, поезжай без меня", — он без слов обнял бы брата и тут же отправился в обратный путь без него.
Первым нарушил молчание Жак. Переменив ботинки и заперев чемодан, он подошел к Антуану.
— Знаешь, уже семь часов. Пора идти.
Ничего не ответив, Антуан стал собираться и спросил:
— Помочь тебе?
— Нет, спасибо.
Говорили они вполголоса, не так громко, как днем.
— Дай-ка мне твой чемодан.
— Да он не тяжелый. Иди вперед…
Они бесшумно покинули комнату. Антуан вышел первым. И услышал за спиной, как Жак повернул выключатель и осторожно прикрыл за собой дверь.
В вокзальном буфете они пообедали на скорую руку. Жак почти все время молчал, еле притрагивался к пище; а Антуан, озабоченный не меньше брата, не нарушал молчания и даже не пытался притворяться.
Поезд уже стоял у перрона. Ожидая посадки, братья прошлись вдоль состава. Из туннеля без перерыва валили пассажиры.
— В поезде, очевидно, будет теснотища ужасная, — заметил Антуан.
Жак не ответил. Но вдруг сообщил:
— Вот уже два года и семь месяцев, как я живу здесь.
— В Лозанне?
— Нет… Живу в Швейцарии. — Они прошли несколько шагов, и Жак пробормотал: — Моя чудесная весна тысяча девятьсот одиннадцатого года…
Они прошлись еще раз от паровоза до хвоста поезда, оба молчали. Очевидно, Жак думал все о том же, потому что у него как-то само собой вырвалось:
— У меня в Германии были такие мигрени, что я буквально на всем экономил, лишь бы удрать, удрать в Швейцарию, на свежий воздух. Приехал я сюда в самый разгар весны, в мае. В горы. В Мюлленберг, это в кантоне Люцерн.
— Значит, Мюлленберг…
— Да, там я написал почти все стихи, которые печатал под псевдонимом "Мюлленберг". В то время я очень много работал.
— И долго ты там жил?
— Полгода. У одних фермеров. У двух бездетных старичков. Чудеснейшие полгода. Какая там весна, какое лето! В первый же день приезда меня очаровал вид из окна. Пейзаж широкий, чуть волнообразный, простые линии изумительного благородства! Уходил с утра, а возвращался только к вечеру. Луга все в цвету, дикие пчелы, огромные пастбища на склонах, коровы, через ручьи перекинуты деревянные мостики, Я бродил, я работал на ходу, бродил целыми днями, а иногда и вечерами, даже ночами, ночами… — Жак медленно поднял руку, она описала в воздухе кривую линию и упала.
— Ну, а твои мигрени?
— Знаешь, мне сразу стало много легче, как только я сюда приехал. Меня Мюлленберг исцелил. Скажу больше, никогда у меня не было такой легкой, ничем не стесненной головы! — Он улыбнулся своим воспоминаниям. — Легкой и, однако, полной мыслей, планов, безумств… Думаю даже, все, что мне удастся написать в течение моей жизни, зародилось именно там, на этом чистом воздухе, в то лето. Помню дни, когда я находился в состоянии такого восторга… В эти-то дни я по-настоящему познал хмель подлинного счастья!.. Бывало — стыдно признаться — бывало, я прыгал, бегал как ошалелый, а потом бросался ничком на траву и рыдал, сладостно рыдал. Думаешь, преувеличиваю? Нет, чистая правда, помню даже, в иные дни, когда слишком наревусь, я нарочно шел домой кружным путем, чтобы промыть глаза в ручейке, — я его обнаружил в горах… — Жак потупился, прошел несколько шагов молча, потом повторил, так и не подняв головы: — Да, прошло уже два с половиной года.
Он промолчал до самого отхода поезда.
Когда поезд, не дав свистка, отошел от дебаркадера с неумолимой уверенностью, с пассивной мощью Механизма, пущенного в ход расписанием, Жак сухими глазами стал смотреть, как исчезает из глаз опустевший перрон, как пробегает мимо окон, все убыстряя темп, предместье, истыканное точечками огней, йотом все скрыла темнота, и он почувствовал, что его, беззащитного, несет куда-то во мрак.
Взгляд его, минуя незнакомых людей, теснившихся вокруг, искал Антуана, который, стоя к нему спиной в коридоре, всего в нескольких шагах, казалось, тоже блуждает взором в темных полях. Жака снова охватило желание ощутить близость брата и все та же настоятельная потребность открыть ему душу.
Ему удалось, скользя между пассажирами, добраться до Антуана, и он дотронулся до его плеча.
Антуан, зажатый людьми и чемоданами, загромождавшими проход, решил, что Жак просто хочет сказать ему что-то, поэтому он даже не повернулся к нему, а только нагнул шею и голову. В этом коридоре, куда их загнали, как загоняют скот, под треньканье покачивающегося на рельсах вагона, Жак, прижав губы к уху Антуана, прошептал:
— Антуан, послушай, ты должен знать… В первое время я вел… я вел…
Ему хотелось крикнуть полным голосом: "Вел жизнь постыдную. Сам себя унизил… Был толмачом… Гидом… Лишь бы выкрутиться… Ахмет… Хуже того, дно Рю-о-Жюиф. А друзьями моими были люди самого последнего разбора: дядюшка Крюгер, Селадонио… Каролина… Как-то ночью в порту они оглушили меня ударом дубинки, и я лежал в госпитале, отсюда-то и мои мигрени. А в Неаполе… А в Германии эта чета, Руперт и крошка Роза. В Мюнхене из-за Вильфреда я попал… попал в предварительное заключение…" Но чем больше признаний готово было сорваться с его губ, чем многочисленнее и смятеннее вставали воспоминания, тем труднее было выразить словами это постыдное, оно действительно становилось для него постыдным…
И, чувствуя, что невозможно сказать это вслух, он пробормотал только:
— Я вел постыдное существование, Антуан… Постыдное… По-стыд-ное! (И слово это, несущее в себе всю гнусность мира, слово тяжелое и вялое, слово, которое он повторял с отчаянием в голосе, принесло ему облегчение, будто настоящая исповедь.)
Антуан повернулся к брату всем корпусом. И постарался сделать вежливую мину, хотя стоял в неловкой из-за тесноты позе, стесняясь присутствия пассажиров, боясь, что Жак сейчас заговорит полным голосом, а главное, он с трепетом ждал того, что станет ему сейчас известно.
Но Жак, опершись плечом о стенку купе, по-видимому, не был намерен пускаться в дальнейшие объяснения.
Пассажиры отхлынули из коридора, разошлись по своим местам. Вскоре Антуан с Жаком очутились в благоприятном одиночестве, когда можно говорить, не боясь чужих ушей.
Тут Жак, который до этой минуты молчал, видимо, отнюдь не торопясь продолжить разговор, вдруг нагнулся к брату:
— Видишь ли, Антуан, что действительно страшно — это, в сущности, не знать, что… нормально… нет, вовсе не "нормально", глупости я говорю. Как бы лучше выразиться? Не знать, можно ли отнести наши чувства, вернее, инстинкты… Но ты врач, ты-то знаешь… — Говорил Жак глухим голосом, упирая на каждое слово, сведя брови к переносице, и рассеянно вглядывался в темное вагонное стекло. — Так вот слушай, — продолжал он. — Иной раз испытываешь… Ну, словом, вдруг в тебе пробуждаются порывы к тому… или к другому… Порывы, идущие из самых недр… Понятно?.. А ты не знаешь, испытывают ли другие люди то же самое или ты просто… чудовище!.. Улавливаешь мою мысль, Антуан? Вот ты, ты столько видал людей, столько различных житейских случаев, и, разумеется, ты-то знаешь, что… скажем… правило, а что… исключение из правила. Но для нас, ничего не знающих, это, поверь, до ужаса страшно… Вот пример: в тринадцать-четырнадцать лет неведомые желания налетают на тебя порывами, неотступно томя мысль, и нет от них защиты, их стыдишься, с болью скрываешь, как позорное клеймо… А потом, в один прекрасный день, обнаруживаешь, что это самая естественная вещь на свете, даже больше того, самая прекрасная… И что все, все тоже, подобно тебе… Понимаешь?.. Так вот, если проводить параллель, есть какие-то вещи, темные вещи, инстинкты… и они-то бунтуют, и даже в моем возрасте, Антуан, даже в моем возрасте… ломаешь себе голову, не знаешь…