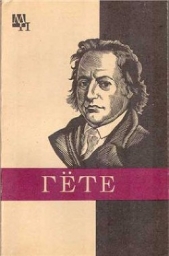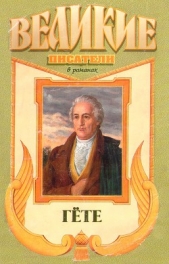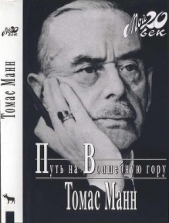Лотта в Веймаре

Лотта в Веймаре читать книгу онлайн
Роман немецкого писателя «Лотта в Веймаре» (1939 г.) посвящён встрече Гёте с Шарлоттой Кестнер, ставшей прообразом Лотты в «Страданиях молодого Вертера». В романе великолепно выписан образ поэта, показана вся сложность его характера и творчества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но это было просто вежливостью по отношению к великому филологу. На деле маэстро не придает большого значения систематическим школьным занятиям и воспитанию. Скорее он хотел бы, чтобы юношество на свободе удовлетворяло естественную жажду знаний, которую он в нем предполагает. Вот вам новый пример его склонности к попустительству, его толерантности! Может быть, здесь сказывается его доброта, – я этого не отрицаю, – великодушие, снисходительность; он благосклонно принимает сторону молодежи против школьной муштры и педантства. Весьма возможно. Но сюда примешивается и нечто другое, менее похвальное, – известная пренебрежительность, недооценка молодежи и ее внутренней жизни. Ибо он все же не понимает прав и обязанностей юношества, придерживаясь того мнения, что дети существуют лишь для родителей, что их единственная задача – дорасти до них и мало-помалу впитать в себя их жизнь…
– Уважаемый господин доктор, – вставила Шарлотта, – везде и всегда, невзирая ни на какую любовь, между родителями и детьми существуют разногласия и непонимание, известная нетерпимость детей к личной жизни родителей, в свою очередь склонных с пренебрежением относиться к их особым правам.
– Без сомнения, – рассеянно отвечал гость, подняв глаза к потолку. – Я часто беседовал с ним в экипаже или в его рабочей комнате по вопросам педагогики – беседовал, а не спорил, ибо с благоговейным любопытством выслушивать его мысли мне было интереснее, чем настаивать на своих. Под формированием юноши он подразумевает процесс созревания, который, при благоприятных обстоятельствах, – а обстоятельства своего сына он справедливо расценивает как благоприятнейшие (поскольку, разумеется, речь идет об отце, ибо что касается матери… Ну да оставим это!) – и считает возможным в той или иной степени предоставить процесс его естественному развитию. Август – его сын. Этой формулой для него исчерпывался весь смысл существования мальчика, юноши, единственное назначение которого быть его сыном и со временем снять с него тяготы будничных дел. Эту мысль Август впитал с малолетства. Об индивидуальном формировании характера, о воспитании ради него самого, в предвидении его будущих целей, никто, собственно, никогда не думал. А в таком случае к чему принуждение и систематическая школьная муштра? Не надо забывать, что отец в юности тоже не знал этого. Будем называть вещи своими именами: систематического воспитания он не получил ни в детском, ни в отроческом возрасте и лишь немногое изучил основательно. Это никому не бросится в глаза или лишь при очень долгом и близком общении и при собственных действительно глубоких научных познаниях. Ибо само собой разумеется, что с его острым восприятием, прочной памятью, с необычайной живостью его духа он множество знаний схватил на лету, ассимилировал их и благодаря качествам уже иного порядка – остроумию, обаятельности, владению формой, красноречию – пользуется ими с большим успехом, нежели другой ученый, обладающий подлинными знаниями.
– Я слушаю вас, – произнесла Шарлотта, довольно успешно пытавшаяся выдать дрожание головы, снова ставшее заметным, за подтверждающие кивки. – Я слушаю вас с интересом, объяснение которому все время стараюсь подыскать. Ваша манера говорить проста, и все же в ней есть что-то волнующее, ибо невольно волнуешься, когда о великом человеке говорят не с предвзятой восторженностью, а трезво, сухо, с реализмом, основанным на интимном опыте ежедневного общения. Когда я начинаю вспоминать и сверяюсь с собственными наблюдениями, пусть очень давнишними, – но ведь они как раз относились к молодому человеку, о чьем свободном самовоспитании вы говорите, – то, по-моему, его пример лишь подтверждает превосходство этих личных прав над более строгой системой воспитания. Как бы то ни было, но этого юношу, этого двадцатитрехлетнего молодого человека я знавала, долго приглядывалась к нему и могу засвидетельствовать: систематического учения, трудолюбия, служебного рвения за ним не замечалось. В Вецларе он, собственно, ничего не делал – и здесь, я не хочу это замалчивать, его значительно превосходили коллеги, практиканты и стряпчие, кого ни назови, – Кильмансегге, легационный секретарь Готтер, тоже писавший стихи, Борн и другие, даже несчастный Иерузалем, не говоря уже о Кестнере, который и тогда вел серьезную трудовую жизнь и однажды заставил меня призадуматься, заметив, как легко кружить головы женщинам, быть душою общества, всегда свежим, веселым, блестящим и остроумным, когда тебе живется так вольготно на божьем свете и ты наслаждаешься полной свободой, в то время как другие приходят к любимой после хлопотливого дня, уставши от деловых забот, и уже не в силах показать ей себя с наивыгоднейшей стороны.
Я всегда знала, и не забывала, что блага здесь распределены неравномерно, и обращала это в пользу моего Ганса-Христиана, хотя и сомневалась, чтобы другие молодые люди при большем досуге – а ведь какой-то досуг они все же имели! – могли выказать столь высокие душевные качества, были бы способны на такую теплую искреннюю шутку, как наш друг. И все же часть его пылкости я относила за счет его незанятости и того, что он мог невозбранно, всеми силами своей души предаваться дружбе, – но только часть, ибо я понимала, что прекрасная сила его сердца и – как мне это назвать? – его жизненный блеск не исчерпываются таким объяснением. Ведь даже когда он, печальный и скорбный, поносил весь мир и всех людей, он все же был интересней, чем наши трудолюбцы по воскресным дням. Это я знаю так же твердо, как знала тогда. Он часто напоминал мне дамасский клинок, – я уж не упомню теперь, в чем тут было сходство, – но также и лейденскую банку, и это уж по ассоциации с электрическим зарядом, ибо он всегда был как бы заряжен. Казалось, стоит до него только дотронуться, и ты почувствуешь удар, словно от прикосновения к какой-то там породе рыб. Не удивительно, что другие, вообще говоря, превосходные люди, в его присутствии или даже отсутствии казались вялыми. И еще у него был, когда я ворошу свои воспоминания, необычайно открытый взгляд – я говорю «открытый» не потому, что его глаза, карие и близко посаженные, были особенно большими: но именно взгляд был очень открытый и одухотворенный, в полном смысле этого слова, а когда в них светилась сердечность, они становились совсем черными. Что, у него еще и поныне такие глаза?
– Глаза, – повторил Ример, – глаза временами могучие. – Его собственные, остекленевшие и выпуклые, меж которых залегла бороздка мучительных раздумий, показывали, что он слушал невнимательно, отдавшись течению своих мыслей. Дрожание головы собеседницы он едва ли заметил, ибо его большая белая рука, когда он снял ее с набалдашника, чтобы чуть заметным прикосновением безымянного пальца благовоспитанно устранить легкое почесывание в носу, тоже дрожала. Шарлотта это заметила и была так неприятно поражена, что поспешила приостановить аналогичное явление у себя: при старании это ей вполне удавалось.
– Здесь речь идет о феномене, – продолжал свое Ример, – стоящем того, чтобы в него углубиться, и способном заставить человека часами предаваться размышлениям, пусть бесплодным и ни к чему не ведущим, так что это занятие должно было бы скорее называться мечтательством, чем подлинным размышлением, иными словами, о форме и обаянии, или печати божества, которую природа с улыбкой – так невольно себе это представляешь – накладывает на предпочтенный ею душ, отчего он становится прекрасным духом, – о слове, имени, которое мы машинально произносим для обозначения привычной и приятной человечеству категории; хотя вблизи, при более внимательном рассмотрении, подобный феномен остается непостижимой, тревожной и, в личном плане, даже оскорбительной загадкой…
Если я не ошибаюсь, мы говорили о несправедливости; что ж, и здесь, без сомнения, царит несправедливость, естественная, а потому всеми почитаемая, – восхитительная несправедливость, правда, не без колючих шипов для того, кому суждено изо дня в день видеть и ощущать ее. Тут имеют место изменения ценностей, обесценения и переоценки, которые ты принимаешь охотно, более того – с невольным восторгом, ибо отказать им в известном радостном признании значило бы идти наперекор господу и природе, и все же, из чувства справедливости, тайком, в тиши не можешь не порицать их. Ты сознаешь себя обладателем знания, достигнутого упорным трудом, из чистой любви к науке, солидного научного багажа, неоднократно и честно проверенного. И вот приходишь к столь же своеобразно прекрасному, сколь и горько смехотворному выводу, что тот изощренный и благословенный дух, тот предпочтенный ум может сообщить скудному осколку этих знаний, случайно подхваченных или тобою же ему поставленных, – ибо для него ты не более как поставщик научных сведений, – вдвое, втрое большую ценность, чем целый мир, целые поколения кабинетных ученых. И почему же? Да благодаря все тем же форме и обаянию, – впрочем, это только слова! – нет, попросту благодаря тому, что он, а никто другой возвратил миру случайно подхваченное и, придав ему частицу самого себя, как бы отчеканил на нем свое изображение. И правда, другие взрывают горы, роют землю, очищают руду, а властитель в результате всех их трудов знай себе чеканит дукаты!.. Королевская привилегия! Но в чем ее суть? У нас много говорят о личности, он сам любит говорить о ней, и, как известно, назвал ее высшим счастьем смертных. Таков его приговор, а следовательно, приговор, обязательный для человечества. Но это не определение. В лучшем случае это описание. Да и как определить таинство? Без таинств человеку, видно, не обойтись, и если христианские ему наскучили, он тешит себя языческими или природным таинством личности. О христианских наш властитель умов и слышать не хочет. Поэт или художник, преданный христианской мистике, обречен на его немилость. Но таинство природы он ставит очень высоко, ибо это его таинство… Величайшее счастье – за меньшее мы, смертные, не смеем почитать это таинство! Иначе как объяснить, что просвещенные умы и люди науки считают не ограблением себя, но великой для себя честью толпиться вокруг прекрасного гения, обаятельного человека, состоять в его штабе, в его свите, приносить ему в дар свои знания, быть для него живыми словарями, всегда имеющимися под рукой, дабы избавлять его от возни с научным хламом. Ну как объяснить, что человек, подобный мне, с блаженной улыбкой – мне самому она иногда кажется дурацкой – год за годом служит ему простым писцом…