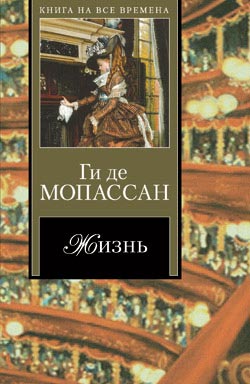Обсуждение

Обсуждение читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тезис был предложен Лугонесом в его книге «Пайядор». у нас, аргентинцев, говорится в ней, есть ставшая классической поэма «Мартин Фьерро», которая для нас должна быть тем же, чем были для греков гомеровские песни.
Это мнение трудно оспаривать из страха так или иначе дискредитировать поэму «Мартин Фьерро». Поэму эту я считаю самым добротным произведением аргентинской литературы, но вместе с тем я столь же уверен, что «Mapтин Фьерро» – это вовсе не наша библия и не наша каноническая книга, как это подчас принято утверждать
В книге «История аргентинской литературы» Рикардо Рохаса – одного из канонизаторов «Мартина Фьерро» – есть одно, на первый взгляд почти тривиальное, но на самом деле весьма хитрое рассуждение.Основой творчества гаучистов, то есть таких поэтов как Идальго, Аскасуби, Эстанислао дель Кампо и Хосе Эрнандес, Рохас считает поэзию пайядоров, то есть фольклорные песни гаучо. Исходя из того, что народная поэзия написана восьмистопным стихом, а поэты-гаучисты пользуются как раз тем же метром, он умозаключает, что творчество гаучистов является продолжением и совершенствованием традиции пайядоров.
В этом рассуждении, думается, есть очень серьезная ошибка или же определенная подтасовка: ведь если Рохас прав и гаучистская поэзия, зародившаяся в творчестве Идальго и достигшая расцвета в поэме Эрнандеса, восходит к фольклору гаучо, является его продолжением или порождением, то, выходит, Бартоломе Идальго вовсе не Гомер этой поэзии, как сказал Митре, а всего-навсего одно из звеньев длинной цепочки.
Рикардо Рохас делает из Идальго пайядора; однако, как явствует из той же «Истории аргентинской литературы», этот предполагаемый пайядор начинал свое творчество с одиннадцатисложных стихов – метра, естественно запретного для пайядоров, которые так же не понимали его гармонии, как в свое время не понимали ее испанские читатели в стихах Гарсиласо, заимствовавшего одиннадцатисложник у итальянцев.
Я считаю, что между фольклорной поэзией гаучо и гаучистской поэзией существует фундаментальное различие. Это различие, касающееся не столько лексики, сколько замысла произведений, станет вполне очевидным, если сравнить любой сборник народных песен с «Мартином Фьерро», «Паулино Лусеро» или «Фаустом». Народные деревенские или городские поэты раскрывают своих стихах только самые общие темы – страдания из-за любви, из-за отсутствия любимей, горечь любви и т л – причем пользуются при этом также самой общераспространенной лексикой. В отличие от них, гаучистские поэты сознательно культивируют народную речь, которая для пайядоров естественна. Язык народных поэтов не всегда грамотен, но все ошибки проистекают из их необразованности. Гаучисты же намеренно ищут самобытные словечки, стремятся к переизбытку местного колорита. И вот доказательство этому: любой колумбиец, мексиканец, испанец сразу же, без всякого труда, поймет поэзию яайядоров и гаучо, но ему не обойтись без глоссария, чтобы хоть приблизительно разобраться в стихах Эстанислао дель Кампо или Аскасуби.
Все сказанное можно резюмировать следующим образом: гаучистская поэзия, создавшая – еще раз настойчиво повторяю – поистине великолепные произведения, – это литературное течение, столь же искусственное, как и всякое другое. Уже первые гаучистские произведения – куплеты Бартоломе Идальго – претендуют на то, чтобы «выглядеть» песнями с чисто фольклорным звучанием, как бы написанными гаучо. Нет ничего более далекого от народной поэзии, чем эти стихи. Наблюдая не только за деревенскими, но и за столичными пайядорами, я замечал, что народ чрезвычайно серьезно относится к самому акту сочинения песен и потому инстинктивно старается избегать просторечий и стремится употреблять наиболее пышные слова и обороты. Обилие креолизмов в песнях современных пайядоров, очевидно, объясняется влиянием гаучистской поэзии, но в принципе эта черта не была свойственна поэтическому фольклору, доказательство чему мы видим в поэме «Мартин Фьерро» (только никто этого почему-то не замечал).
«Мартин Фьерро» написан на языке, характерном для гаучистской поэзии, особенно изобилующем просторечиями в описаниях деревенской жизни; с их помощью автор пытается убедить нас, будто поэма сочинена гаучо. Однако в одном знаменитом отрывке Эрнандес на время забывает о местном колорите и пишет на общепринятом испанском, причем не о местных темах, а о грандиозных абстрактных понятиях: о времени, пространстве, море, ночи. Я имею в виду отрывок из конца второй части – пайяду между Мартином Фьерро и Негром. Получается так, будто сам Эрнандес вдруг захотел обозначить разницу между своей гаучистской поэзией и подлинной поэзией гаучо. Как только эти два гаучо – Фьерро и Негр – начинают петь и обращаются в стихах к философским темам, с них тут же слетает вся гаучистская аффектация. То же самое я наблюдал, слушая современных пайядоров: они всячески избегают местных или жаргонных словечек и стараются петь на грамотном испанском. Разумеется, им это не удается, но главное – их отношение к поэзии как к чему-то высокому, чему-то «выдающемуся», сказали бы мы с улыбкой.
Мне кажется ошибочным утверждение, будто аргентинская поэзия должна изобиловать местным колоритом и описаниями различных характерных реалий аргентинской жизни. Если бы нас спросили, какая книга по сути своей более «аргентинская»: «Мартин Фьерро» или сборник сонетов «Урна» Энрике Банчса, то у нас не было бы никаких резонов указывать на первую. Пусть в сонетах Банчеа не представлены ни аргентинский пейзаж, ни наша топография, ботаника, зоология, но в них есть другие аргентинские элементы.
Мне вспомнилось несколько строк Банчса, словно нарочно написанных, чтобы дать нам возможность утверждать, будто книга «Урна» не аргентинская; вот они: «...Солнце блестит на стеклах и на черепичных крышах. Соловьи поют о том, как они влюблены».
Кажется, обвинения в отрыве поэта от реальности неизбежны: «Солнце блестит на стеклах и на черепичных крышах...» Энрике Банчс писал эти стихи, живя в пригороде Буэнос-Айреса, а, как известно, в пригороде нашей столицы – дома с плоскими крышами, а не с черепичными; далее: «...соловьи поют о том, как они влюблены»: «соловей» – образ, взятый не из действительности, а скорее из литературы, из греческой и европейской литературной традиции. В обращении к этим условным образам, к этим выдуманным черепичным крышам и соловьям нет, конечно, никакой связи с аргентинской архитектурой и орнитологией, зато есть чисто аргентинская стыдливость и недомолвка. Банчс, говоря о гнетущем его горе, о женщине, которая его бросила и оставила в опустевшем для него мире, прибегает к таким условным, иноземным образам, как черепичные крыши и соловьи, – и факт этот весьма значителен: он свидетельствует о характерной для аргентинца недоверчивости, замкнутости, о боязни исповедей и доверительных бесед.
Не знаю, стоит ли говорить о вещах вполне очевидных, но идея, будто литературы должны различаться в соответствии с характерными чертами их стран, относительно нова, и так же нова и произвольна идея, вменяющая в обязанность писателю говорить только о своей стране. Не будем ходить далеко за примером: никто еще не покушался на право Расина считаться французским поэтом за то, что он выбирал для своих трагедий античные темы. Думаю, Шекспир был бы поистине изумлен, если бы его попытались ограничить только английской тематикой и если бы ему заявили, что, как англичанин, он не имел никакого права писать «Гамлета» на скандинавскую тему или «Макбета» – на шотландскую. Кстати, культ местного колорита пришел в Аргентину из Европы, и националисты должны были бы отвергнуть его как иностранное заимствование.
Однажды мне попалось одно любопытное утверждение о том, что подлинно национальная литература может обойтись и, как правило, обходится без всякого местного которита; я нашел эту мысль в «Истории упадка и разрушения Римской империи» Гиббона. Гиббон заметил, что в Коране, книге исключительно арабской, нет ни одного упоминания о верблюдах. Она была написана Магометом, а Магомет, будучи арабом, знать не знал, что верблюды – это что-то специфически арабское, для него эти животные были частью повседневной действительности, самой по себе ничем не примечательной. В отличие от него фальсификатор, турист, арабский националист первым делом «выставит» верблюда и начнет прогонять целые караваны верблюдов через каждую страницу, – а Магомета это не волновало: он был арабом и знал, что можно оставаться арабом и не сидя на верблюде. Так вот, мне кажется, мы, аргентинцы, в этом смысле должны походить на Магомета и верить в возможность оставаться аргентинцем и без нагромождений местного колорита.


![Жизнь как жизнь (Проза жизни) [Обыкновенная жизнь]](/uploads/posts/books/11745/11745.jpg)