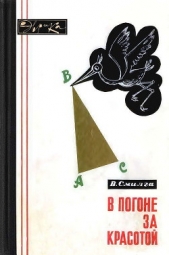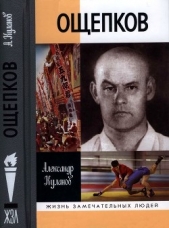Жареный петух

Жареный петух читать книгу онлайн
Первая книга писателя Е.Б.Федорова, лауреата парижской литературной премии им. В.Даля. Повесть "Жареный петух" публиковалась в журнале "Нева" (9, 1990) и была признана лучшей литературной публикацией года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как, как? — я пришел в телячий восторг и взвыл от удовольствия. Саш, елышь, в наш огород!
Но Краснов лишь спросил:
— А какой, по-вашему, я нации?
Шалимов не имел настроения пикироваться, доискиваться до правды- матки, пропустил несогласие Краснова мимо ушей, распространяется дальше:
— Опять злыдень-лес, зарядилась пурга, колет лицо, в рукава, за воротник лезет, мохнатые шмели вьются, слепят глаза, во все набиваются, жалят. Сугробища, снега гибель сколько. Зима вовсю работает, старается. Нездоровый для зэка здесь климат, погибельный. Слушай сюда. Случай из жизни. Повал. Пилу не трогаю. Болтается весь день на суку. Лишь костер подбадриваю, соблюдаю, дрова подбрасываю. Грею то один бок, то другой подставляю. Валенки сушу. Это дело надо с умом и осторожно делать. Оплошно прожечь — раз плюнуть. Пайка, как повелось, штрафная, жук чикнул. Четыреста грамм червяшки — весь ассортимент питания. Мамочка, роди меня обратно. Запоешь. А напарник, хохол-верзила, полтора Ивана, двужильная, трудолюбивая орясина, не ваш характер. Вовсю выкладывается, старается очень, стахановец. До посинения. За добавкой, дурында, гонится, норму гонит, бендеровец. Дундук, ишак. Спину гнет, ломает, на мускул и силу надеется. Упирается так месяц, два. Силы есть — ума не надо. Пилит, искры из глаз. И на третьем месяце, глядь, зафитилил, голова садовая. Идем в зону, ветер гудит, гудит, как бык: у-у! — Савич вложил в голос стихии крылатое словечко: y...у! — Готов бендеровец: ноги заплетаются, кренделить начал. Наломался дурень за день — силы оставили. Сразу. Так сразу. А у меня еще ресурс. Я ногами легонько перебираю, семеню, качусь, как шарик легонький. Пушинка. Заерихонил Бендера отпетым, дурным лебедем: Савич, земеля, пособи, дух вон! Накося — выкуси. Черта лысого! Не выйдет! Я на штрафном качусь какой месяц! Чего захотел. Как дух легонький. Отбузуй свою пайку? А хохол жох, жаден. Гуд бай. Не жди пощады! Вот моя хиромантия. Умри сегодня, а я умру завтра — четвертая лагерная заповедь.
Надменный, гордый смех победителя: Савич решил страшную теорему жизни.
— Отстал от строя,— постепенно, с чувством собственного достоинства роняет слова Шалимов,— пиши пропало. Думаешь, конвой на руках понесет тебя в зону? Держи карман шире. Пиф-паф, девять грамм в затылок. И был таков, Иван Пятаков. Убит при попытке к бегству. Хай живе Степан Бендера и его сообщники — допрыгался стахановец!
Венчает нравоучительную притчу Шалимов блистательным афоризмом, который непосвященному может показаться искусственным, крикливым, пустопорожним парадоксом:
— Лучше недоесть, чем переработать.
И еще история с географией про то, как Шалимов в долгожданной и размечтанной больнице оказался, задержался там,. санитаром что ли работал или еще кем-то. Я спать хочу, просто умираю. Мои свинцовые, отяжелевшие веки слипаются под его неиссякаемый, черный благовест (чего нет в бараке, так это безмолвия и тишины), и я сползаю в объятия благодатного, целительного сна и дрыхну без задних ног, пока дневальный не начнет тормошить: "Витек, столовую пропустишь. В памяти держатся ошметки слов Савича: "Испить, браток?". О чем? Что было потом, о чем рассказ — не ведаю.
Однажды Краснов кликнул меня из барака, сказал, что попал в непонятное. На шпалорезке перерыв. Проглотили кашу. Гудок, кончай перекур. А вот тут-то и разверзается самый перекур с дремотой, дорогие минуты, сверхсладки. Заводской родной гудок призвал подлого, лукавого зэка напрягать мускулы, все спешат еще малость урвать. Вытряхнулись, наконец, из курилки, побрели с Савичем за шпалой. Нехотя, неспеша. Леса не было. Шпалорезка стояла. Подгребали, подскребали остатки, что когда-то в завал было пущено. Они, Краснов и Савич, идут. Шалимов забегает вперед, встает перед Красновым настырным фертом, камень, не сдвинешь его.
— Слушай сюда, Сашок! Эту видишь? — тычет ногою в шпалу. — Честь- честью прошу, пустишь мне! Как с человеком говорю,— Краснов нагнулся, легко поднял шпалу за один конец, навалил ее на плечо: не ахти тяжела. Шалимов присел на корточки, крепко прижал короткопалую кисть руки к шпале, зажмурился, отвернулся, сжался в комок: "Готов! Пошел!"Краснов уверенно пустил шпалу с плеча. Глазомер. Тютелька в тютельку. Хорошо, точно ляпнулась. Шалимов разинул сперва пасть, оскалились гнилые зубы, выкатил очумелые бельма, долго не мог голос спустить, задыхался. Замахал подбитой, поуродованной рукой, запрыгал бесновато, высоко, на метр. Рука сделалась белой, какой не бывает: лист бумаги писчей. Забазлал. Приналег на рысях к вахте. Вскоре туда, на вахту, тяганули и философа. Шалимов был тут же, с неподдельной вроде злобой матюгался, повторял одно и то же, назойливо. Вот-де дают в напарники Фан Фанычей, интеллигенцию, азохен вей, а они калеками нас сделают. Студент, философ, азохен вей. У него из рук все валится. Ничего, кроме ручки, в руках не держал. Ему в конторе сидеть. Чаи гонять, а не со шпалами мудохаться. Ему ручечку, дебет-кредит, геморрой высиживать.
Мы шлендаем по ОЛПу; история, которую поведал мне Краснов, завершена проницательным умозаключением, которое я помню почти дословно:
— Факт это, спрашиваю, или не факт? Лагерь, утомительный, изнурительный труд. Перерасход энергии, и она за время отдыха не восстанавливается: хроническое недоедание, следует дистрофия. Материал для долгих размышлений. Допустим, Шалимов спас себе жизнь, улизнув от работ на повале, выбрал четырехсотграммовую штрафную пайку вместо рациона лагерника. Я не такой простак, чтобы не видеть, что Шалимов враль, пустомеля, арап каких мало, забубенная совесть, большой сукин сын. Я не забываю другое. Человек, немощный сосуд, по природе подл, мерзок, гнусен, страшен и отвратителен. Не спорь. Лучше вспомни "Комманифест" Маркса, Фрейда, приоткрывшего завесу над кошмарами подсознательного, вспомни Штейнера или своего любимого Достоевского, подпольного человека. Такой тип, как Шалимов, будет работать только из-под палки. Дело отнюдь не в лагере, как ты отлично понимаешь. Может, и есть Моцарты, Бетховены, Эйнштейны, которые не равны нам природою. Пришельцы из других миров, творцы, захваченные высокими болезнями. Сделаем еще шаг вперед. Всякое отклонение от нормы — болезнь. Гений — болезнь. Лебедь мой, мы прекрасно знаем, что кроме Бетховенов, Моцартов, их экстазов, существует низкий труд: физический, неприятный, тяжелый. Этот труд никто не хочет выполнять, отлынивают. Я Горького уважаю, многим ему обязан, но он врал, прекраснодушествовал, когда воспевал тяжкий физический труд. Не спорь. Я лучше, чем ты, отношусь к Горькому. Честнее были древние философы, которые откровенно говорили, ч:то физический труд унижает человека, что он постыден, противоречит добродетели. Так думает Аристотель. Конечно, просидел день в конторе, почему не размяться, то-се, почему не разогнать кровь. Можно и дрова поколоть. Но когда ты зверски устал, вымотался? И изо дня в день, без просвета. Нет. Пусть каждый задаст себе вопрос. Ответь, согласился бы ты всю жизнь вкалывать? Не жду ответа, скажу, что я не готов. Ни за какие коврижки, хоть озолоти. Никто без палки работать не будет. Так устроен человек, такова его природа страшная. А из своей природы не выскочишь, как на ребра не опирайся. Лагерь ни при чем. Простые люди, которых миллионы и миллиарды, которые бесчисленны, как морской песок, без палки, без лагеря не будут работать. Не перечь. Не шарахайся. Я отнюдь не оговорился. Вся наша жизнь в некотором не романтическом, нудном смысле слова есть неволя, лагерь. Только в лагере все обнажено, откровенно, что там, на воле, прикрыто фиговыми листами. Вот от этой печки будем смело танцевать.
Кошелев, начальник ОЛПа, с напористой ретивостью и хлопотливой энергией Петра Великого исполнил предписание ГУЛАГа: буквально за два дня провернул "великое переселение народов"— отделил политических от уголовников и бытовиков, расселил нас, зэков, по статейным признакам. Помню точно, когда нас переселили. Умер Жданов. Вскоре нас с Красновым из клоповника перегнали в барак 22, фашистский. Краснов водворился в том бараке надолго, а я перебрался в барак, где собралась придурня. Хрен редьки не слаще, но все же. Чуть чище. В бараке 22 дневальным оказался наш старый речистый знакомец — Шалимов. На сей раз он обвел медицину: после трех недель больницы урвал временную инвалидность. Краснов получил в бараке отличное место. Хоть и на верхних нарах, но в закутке, рядом с лампочкой: можно читать, не ломать глаза в темноте. Еще и тем потрафило Краснову, что сосед в ночную смену работает: никогда нет. Никто рядом не гомозится. Я приютился похуже, на юру, но тоже ничего. Жить можно. Я в конторе, в тепле, за зону ни ногой, а потому грех роптать и сетовать на судьбину. Авось да небось. Срок помаленьку идет, катится. День, ночь — сутки прочь.