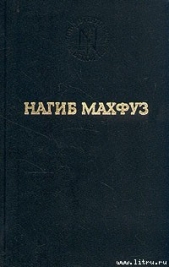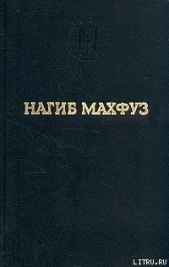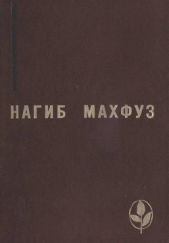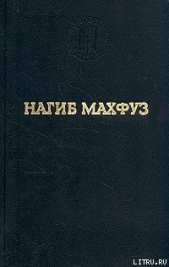Пастораль сорок третьего года

Пастораль сорок третьего года читать книгу онлайн
В книгу известного голландского писателя Симона Вестдейка вошел роман «Пастораль сорок третьего года».
Оптимизм, вера в конечную победу человека над злом и насилием — во что бы то ни стало, при любых обстоятельствах, — несомненно, составляют наиболее ценное ядро во всем обширном и многообразном творчестве С. Вестдейка и вместе с выдающимся художественным мастерством ставят его в один ряд с лучшими представителями мирового искусства в XX веке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А о чем мне говорить?
До сих пор его молчаливость служила ему верным оружием успеха. Именно тем и очаровывал девиц из амстердамских кафе этот тихий юноша, что мало разговаривал — давно известно, что нет другой народности, столь молчаливой, как индонезийцы. Существует мнение, скорее всего несправедливое, что в городе люди более говорливы, нежели в деревне, и следовало бы подумать, как снять с горожан этот поклеп. Ведь в сутолоке большого города, в кафе, где гремит музыка и звенят рюмки, а за окном взад и вперед снуют торопливые прохожие, ты можешь молчать, не привлекая к себе внимания. А если кто и заметит, то скажет, что ты на редкость сдержан. В деревне это воспринимается иначе. Там многословия не требуется, но тот, кто постоянно молчит, становится невыносимым.
Ян ин'т Фелдт принадлежал к людям, которые молчат от избытка вечно бушующей в них и всегда находящей удовлетворение страсти. С юных лет он жил в напряженном ожидании чего-то необычайного, что должно с ним приключиться. Какой смысл трескучими фразами описывать это предчувствие и тем самым его мельчить! А так как в своей спокойной и вместе с тем жадной готовности ко всему он никогда не испытывал разочарований, слова не требовались ему даже для жалоб. Повестка об отправке в Германию, жизнь парии, которую он влачил после ее получения, каждую неделю новая девушка, от которой он брал все, что мог, стачечные дни в мае 1943 года [19], когда его чуть не застрелили, ферма и Мария — все это были мрачные приключения, вовлекшие его в центр мировых событий, которые он плохо понимал и которые его не интересовали. Встретив Марию Бовенкамп, он не сказал, что любит ее, а просто садился с нею рядом за стол и однажды вечером увлек в дальнее овсяное поле, где она в третий или в четвертый раз в своей жизни позволила себя соблазнить. Ей и в голову не пришло, что поведение Яна чем-то отличается от поведения других парней, хотя ее прежние поклонники все же при этом что-то говорили.
На характер Яна ин'т Фелдта, возможно, сильно повлияло кино, куда он привык ходить ежедневно, и это было единственным, чего ему мучительно не хватало на ферме. В кинозале он чувствовал себя счастливым: там все шло своим естественным путем и ставкой в борьбе была жизнь. Весьма ограниченный в области интеллекта, он выгодно отличался от других в области той таинственной страсти, которая говорит сама за себя, превращая своих адептов в полубогов, воплощающих свои мистические устремления в действительность; она не нуждается в словах, ибо ее первое условие — молчание. Все великие любовники относятся к этой категории. Ян, однако, не попадал в нее — он был слишком скучен. Но в тот краткий миг, когда любовник может показать себя без слов, ему не было равных.
— А в Амстердаме ты знал кого-нибудь из НСД? — спросила Мария, когда они уже подходили к своему любовному гнездышку. Рядом с овсяным полем находилась заброшенная ферма, хозяева которой — двое дряхлых старичков — держали только коз; в этом глухом местечке росло одно-единственное шелковичное дерево, развесистое, с черным смолистым стволом, тяжелые ветви стелились низко по земле, но каждый год сквозь чащу узловатых сучьев пробивалась новая, молодая жизнь.
Ян ин'т Фелдт присел на мощный сук и отрицательно покачал головой. В Амстердаме он много слышал о сборищах этих брехунов, но зачем Марии совать свой нос в эти дела?
— И всякий может туда вступить? — спросила она.
Он кивнул, подсел ближе и положил руку ей на бедро.
— И евреи тоже? — игриво спросила она, чтобы хоть что-нибудь сказать.
— Не думаю, — ответил он хриплым голосом, уже обуреваемый страстью, которая хоть на несколько минут делает жизнь стоящей. Но едва он притянул Марию к себе, как она, оттолкнув его, прошептала:
— Может, этот зануда Кохэн виноват, но только, Ян, не сегодня, не…
Она сопротивлялась, он не настаивал, хотя видел, что она зря сваливает на Кохэна, просто у нее нет настроения. И он сидел неподвижно, подобный каменному изваянию, грозный, недоверчивый и молчаливый, как никогда прежде. Смутный страх охватил ее. Может, он что-то подозревает? Что ему известно о «черном»? Откуда было ей знать, что совсем рядом с ней рухнул целый мир и что дело тут совсем не в ней лично.
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ
Схюлтс ехал на велосипеде по верхней дамбе, а справа, со стороны парка, куда евреям вход был запрещен, доносилось пение дроздов. В этом году мелодия напоминала тему симфонических вариаций Цезаря Франка, и перехватили они ее бог весть у каких птиц: синицы, малиновки или зяблика. Дрозды, эти кукушки в области пения, — паразиты и плагиаторы, но благодаря своей ослепительной технике им удавалось придать украденному мотиву удивительно совершенную форму. Это были, собственно, настоящие маленькие немцы — музыкальные, прилежные, но несамостоятельные. Три года назад в майские дни дрозды выводили такую чистую, лукавую мелодию, от которой не отказался бы даже старик Гайдн. Под лазурно-голубым небом дрозды неутомимой пасторалью сопровождали наглый захват маленькой страны. Кто знает, может, и после освобождения они будут исполнять эту же мелодию? — подумал Схюлтс и рассмеялся: любое внешнее впечатление неизбежно связывалось у него с мыслью об освобождении.
Надвигалась гроза. Многозначительно сгустилась туча — она едва вмещалась в реке, потому что теплый западный ветер выдувал на воде пузыри и все энергичней боролся с обратным течением. И хотя ветер сметал с волн пенистые гребешки, они уносились все дальше и дальше. Схюлтс поднялся на самый верх дамбы и огляделся по сторонам. Внизу на другую сторону переправлялся паром. Здесь, на дамбе, было когда-то кафе, но от взрыва бомбы, брошенной в машину фашистского генерала, оно осталось без единого стекла в окнах. Домик поменьше, стоящий рядом, весь завалило известкой. Произошло это еще до того, как Схюлтс появился в здешних краях, другие, неизвестные ему люди сообщили, наверное, англичанам о генеральской машине. В последние два года эта местность стала ареной деятельности Схюлтса, вернее, стала бы, если бы оккупанты уделяли больше внимания укреплению здешних мостов и дамб. Но до поры до времени вся его работа была сосредоточена в лесах, простиравшихся до самого горизонта. Солнце озаряло красные крыши кирпичного завода с высоченными трубами. У переправы Схюлтс немного задержался поболтать с паромщиком, которого он подозревал в контакте с подпольем. Однако паромщик, очевидно предполагавший то же самое о Схюлтсе, был скуп на слова и, по-видимому, ничего существенного не знал. Едва Схюлтс ступил на берег, как упали первые крупные капли и прямо перед ним раскинулась радуга. На фоне свинцово-серого неба засеребрились листья ивы. Пока он подымался наверх, преодолевая сопротивление ветра, сперва пешком, потом на велосипеде, радуга вытянулась во весь свой рост, и это было самое настоящее чудо: она не вставала, как следовало ожидать, прямо с земли (глаз человека привык с большого расстояния видеть радугу уходящей под облака), но еще некоторое время стелилась понизу. Под ее основанием с высоты дамбы можно было разглядеть краешек земли, еще освещенной солнцем, сама же радуга вдруг показалась совсем близкой, что, по-видимому, так и было. Эту картину можно сравнить с завершающей победой, подумал Схюлтс. Устремленная в темные облака, радуга, казалось, находилась бесконечно далеко, тогда как, в сущности, была рядом, рукой подать, а сквозь нее светилась улыбающаяся земля Голландии. Потом краски поблекли и хлынул ливень, который полностью загородил вид на вздымавшийся над серой мглой белый шлюзовый мост — стройный, простой и изысканный, как современный выставочный салон, сверкающий алюминием и стеклом, с башенкой над машинным залом; и под этой белой, грациозной, деловитой конструкцией — как в пещере циклопа, сумрачность полуоткрытых ворот шлюзов, отгороженных друг от друга выступами наподобие бастионов, с черной облицовкой и фонарями, их единственным украшением. В шлюзной камере стояло несколько маленьких судов и ничего больше. Все крупные суда, наверное, взорвали, по крайней мере так оно было в других шлюзах, ближе к городу, там и дамбы минировали. Уйдя вправо от главной дороги, которая поднималась от моста вверх, как шоссе в Альпах поднимается через снеговой пояс, Схюлтс покатил в деревню по нижней дороге, преследуемый дождем, молотившим его по спине.