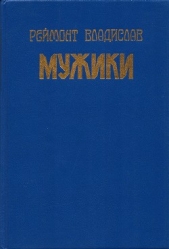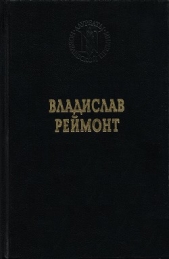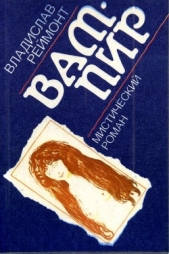Рассказы

Рассказы читать книгу онлайн
В сборник рассказов лауреата Нобелевской премии 1924 года, классика польской литературы Владислава Реймонта вошли рассказы «Сука», «Смерть», «Томек Баран», «Справедливо» и «Однажды», повествующие о горькой жизни польских бедняков на рубеже XIX–XX веков. Предисловие Юрия Кагарлицкого.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Пан начальник, это тот самый Томек Баран, ремонтный рабочий, которого мы уволили за кражу казенного железа…
— Не воровал я, вельмож… начальник… а выгнали меня. Я ничего не брал… как бог свят, не брал!.. Выгнали меня, сироту… Из жалованья вычли то, что мне полагается за выслугу, и страховку, что я платил столько лет… Остался без всего, гол как сокол…
— Мы тебя могли бы и к уголовной ответственности привлечь, — пробурчал дорожный мастер, равнодушно глядя в окно.
— Вот видишь, братец, ты заслужил, чтобы тебя в тюрьму посадили, — строго заметил начальник.
— За что меня в тюрьму? Что, я убил кого? Или воровал? — горячо воскликнул Томек и даже затрясся от внезапного взрыва возмущения.
— Мы из жалости дело замяли, оттого, что у тебя куча детей.
— Да, да, не посадили тебя, потому что детей твоих пожалели. Ясно? Скажи спасибо и за это! — медленно и важно повторил начальник.
— Я пришел справедливости искать. Пан мастер хорошо знает, что мне подстроили. Он сам…
— Донос! Вот, пан начальник, теперь вы видите, каков этот народ!
— Доносчиками и наши деды-прадеды не бывали, и мы не будем. Я вам прямо в глаза говорю, как все было… А что мне полагается за пятнадцать лет службы, хотя бы без процентов, я не подарю, и страховки тоже дарить не хочу…
— Взносов в пенсионную и страховую кассу тебе не вернут, потому что закон ясно говорит…
— Закон должен быть справедливый, а выгнать невиноватого — какая же это справедливость? Справедливо это — не отдать денег, которые я столько лет отрывал от того, что потом и кровью зарабатывал? Я в суд пойду закона искать, потому что обидели меня! — кричал Томек, все больше и больше теряя власть над собой.
— Ну, толкуй с хамом! Устава не знаешь?
— Знаю. Устав вы писали для себя, а народу ваши законы дорого обходятся. Обмануть всякий пес сумеет!
— Молчать, хам! Ты как смеешь, псякрев, тут горло драть да дерзить начальнику! — высокомерно прикрикнул на него дорожный мастер.
— Обидели меня, и буду про это кричать!
— Проворовался, так молчи, скотина этакая!
— Это я вор? Ах ты, чума, шляхтич-голодранец! Я — вор? Я? — кричал Томек, сжимая кулаки и бессознательно подвигаясь вперед.
— Швейцар! Вышвырни вон этого хама и, если он не успокоится, в полицию его! Пойдемте, пан начальник. Ах, скот этакий!
Они вышли на перрон.
— Уж я тебе ребра посчитаю, сволочь! Так тебя отделаю, пес цепной, что попомнишь меня! — шептал про себя Томек.
Ураган гнева и ненависти бушевал в его сердце и мозгу, на лбу выступили крупные капли пота, и его всего трясло. В судороге бешенства он готов был бежать за мастером, схватить его за горло и бить… бить… бить…
Но он скоро опомнился, ушел со станции и во весь дух помчался домой.
В избе застал он много народу. Юзек умирал.
Со свечой в руке он лежал на спине, неподвижный, как камень, и хрипел, с трудом ловя воздух запекшимися губами.
Из деревни набежало много людей, и все стояли на коленях у кровати, повторяя за старым Анджеем, костельным служкой, слова заупокойной молитвы. Лица были суровы, в глазах светилась спокойная покорность судьбе. Девочки, сестры умирающего, громко плакали, и в комнате, полной желтых отблесков громницы, царило трагически-серьезное настроение.
— Иисус! Мария! — голосил Томек, ошеломленными глазами впиваясь в лицо сына, и в бессильном отчаянии рвал на себе волосы.
— Тише, Томек, тише! Если Иисус захотел взять к себе его душеньку, так разве ты, червяк несчастный, можешь противиться? Что ты можешь поделать? — вполголоса унимала его Ягустинка.
— Сыночек мой, дитятко мое родное, серебро мое и золото! — стонал Томек.
— Окурила его, обмерила — и ничего не помогло… Воля господня…
— «От всякого отчаяния…» — разбитым голосом бормотал Анджей.
— «Избавь нас, святый боже!» — скороговоркой подхватывали женщины.
И этот горячий, взволнованный шопот, вздохи, плач разливались по избе журчащим потоком, который возвращался к умирающему, а он, в желтом свете свечи, лежал, все больше вытягиваясь, все шире открывая рот, и левой рукой судорожно теребил на груди сукман, которым был укрыт.
— Ох, сыночек мой золотой! Дитятко родимое! — выл Томек. — Уходишь от нас, миленький, уходишь! На отцовские слезы, на горе наше не глядишь, сиротами оставляешь нас, бедных! Уходишь к Иисусу, сердечный ты мой… Ох!
— Братик милый, не оставляй нас, не уходи, хлопчик наш любимый! — причитала и Марыся, придерживая свечу в ручонке Юзека.
— «От вечных мук избавь нас, боже…» — громче зазвучали голоса молящихся.
— Не погонишь ты уже коровок в поле, сыночек мой единственный! Не побежишь в деревню, не будешь по весне птиц высматривать… не будешь… не будешь…
— «От внезапной кончины избавь нас, боже».
— Еще утром он все жаловался: «Татусь, говорит, я не помру? Татусь, не отдавайте меня Костусе. Тато, я от рас не уйду!» И так скулил, как собачка, когда чует смерть. Ой, бедные мы сироты, несчастные! Чем же я тебе, сын, помогу? Чем?.. Что-то у него внутри, видно, болело, все за животик хватался и стонал. А когда за Марысей молитву повторял, так у него по щекам слезки так ручейком и текли, и дрожал весь, как осиновый лист!
Юзек вдруг перестал хрипеть, шумно и протяжно вздохнул, открыв широко рот. Сильная судорога пробежала по его телу, он приподнял голову и, блуждающим взглядом обведя людей, снова упал на подушку, вытянулся весь, уставив стеклянные глаза в потолок; страшный крик сорвался и замер на онемевших губах. Мальчик умер.
Пальцы его разомкнулись, и свеча выпала из рук, лицо приняло спокойное выражение. Он лежал, равнодушный ко всему, доброму и злому, радости и горю.
Вокруг громко закричали, заплакали.
— Тише, люди! — воскликнула Ягустинка, открывая дверь настежь. — Не мешайте душеньке его отлететь к богу спокойно, не отзывайте ее назад своими жалобами.
Все притихли и вскоре разошлись по домам. В избе из чужих осталась одна Ягустинка.
Томек был так угнетен своим несчастьем, так его сразила смерть единственного сына, что все дни до самых похорон он сидел у печки, не двигаясь, ко всему безучастный. Он словно замкнулся в своем горе и чувствовал, как железная рука стиснула ему сердце и так страшно сжимает его, что ни шевельнуться нельзя, ни крикнуть от нестерпимой боли.
На похоронах он как будто пришел в себя и, шагая за телегой, все время поддерживал гроб, но на людей и на все кругом смотрел как-то бессмысленно, почти не слышал погребального пения и слов утешения, на которые не скупились и ксендз и все провожавшие гроб на кладбище.
«Это смерть в меня входит», — думал он, ощущая какую-то удивительную пустоту и тишину внутри.
— Помру, должно быть, — бормотал он про себя, возвращаясь с кладбища. Он шел один, потому что крестьян задержал ксендз и что-то с жаром говорил им.
Томек не обратил на это внимания, хотя и слышал, как называли его имя. Он шел и смотрел то на широкие поля, засыпанные белым пухом снега, из-под которого только кое-где торчали дикие груши на межах, то на ясное небо и золотой диск солнца. И чудилось ему, что все кругом мерно и тихо колышется и в воздухе стоит звон, словно солнце, как бронзовый колокол, ударяется о черные стены лесов. И какие-то милые сердцу звуки, подобные шелесту зреющих нив, шуму леса в знойные дни, щебету птичьему под стрехой, вливались в душу, наполняя ее блаженством, и баюкали, баюкали ее, как сон…
«Помру, видно», — думал Томек, не понимая, что с ним творится.
Он пришел домой и сел на то же место у печки, не замечая ничего вокруг. До сих пор он боролся с жизнью, как мог и умел, но этот последний удар окончательно лишил его сил: он уже знал, что сам не выкарабкается, что погибнет, — и все стало вдруг безразлично, и он с бесчувственной покорностью склонился перед судьбой. Он не думал больше о себе, о детях, ни о чем не думал, — ждал, пока все как-нибудь кончится.
Он слышал, как в избу вошло несколько человек, как ходят они вокруг и что-то говорят ему, но ничего не соображал. Лег на лавку лицом к стене, натянул полушубок на голову и лежал, как мертвый.