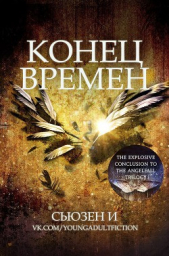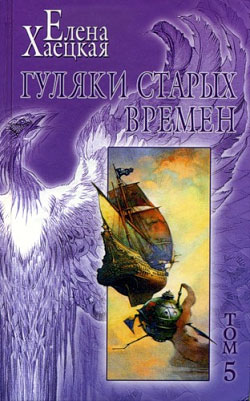Конец старых времен

Конец старых времен читать книгу онлайн
Эта книга продолжит знакомство советского читателя с творчеством выдающегося чешского прозаика Владислава Ванчуры, ряд произведений которого уже издавался на русском языке. Том содержит три романа: «Пекарь Ян Маргоул» (публиковался ранее), «Маркета Лазарова» и «Конец старых времен» (переведены впервые). Написанные в разное время, соотнесенные с разными эпохами, романы эти обогащают наше представление о жизни и литературе Чехии и дают яркое представление о своеобразии таланта большого художника,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И, естественно, распалившись злостью при виде этой собственности на чужих ногах, Ваня пытается стащить их с Марцела. Тот удирает, Ваня его ловит — а тут служанки с блюдами! В общем, цирк.
Бедняжке Марцелу в этих ужасных сапожищах, конечно, трудно летать птицей — он мгновенно падает.
— Да они у него с ног сваливаются, — говорит Фран-тишка, злобно смеясь.
А Ваня уже схватил Марцела своими лапами, подбрасывает его как перышко, и мальчишка визжит от удовольствия. И Ваня ему не уступает…
Когда этот шум замирал и служанки скрывались в помещении, где готовят блюда, Ваня рыскал по кухне в поисках лакомого кусочка. Затем, прислонившись к теплой стенке очага, заводил песню. И сам себе аккомпанировал.
Спрашиваете, на каком инструменте? Уж не на волынке ли, спутнице воителей? Ан нет! Играет он на старой расстроенной гармошке, а поет, как собака на живодерне. И все же это — пение. Да какое! Как оно звучит, как гулко отдается от сводчатого потолка нашей кухни!
Хотелось бы мне знать, сколько раз я или Марцел дергали Ваню за рукав, сколько раз просили не драть глотку и не так сильно сжимать мехи своего инструмента, — все попусту.
Я говорил, что у хозяина были две дочери: старшая — Михаэла и младшая — Китти. Этой девочке только что пошел четырнадцатый год, но она была такая миниатюрная и худенькая, что вы дали бы ей двумя годами меньше. Китти я любил больше всех, хотя она частенько огорчала меня. Она не выросла еще из детских игр и совершенно пренебрегала учением. Куда милее ей было торчать на кухне, вылизывая сковородки. И черта ли ей было в том, что внушали мадемуазель Сюзанна и мисс Эллен! Китти дружила с Марцелом, а с тех пор как у нас обосновался князь со своим денщиком, распростерла свою благосклонность еще и на эту парочку. Почему?
Да потому, что они не походили на других. Потому что на их плечах развевались потрепанные плащи, покрытые пылью и снегом сказок, потому что их обожал Марцел, потому что вокруг них все так и кипело, потому что они не боялись лошадей, потому что у князя был крест на шее и шрам на лбу, потому что он лазил по приставным лестницам — и потому, что раз как-то, усевшись верхом на перила парадной лестницы, он с веселым гиканьем съехал вниз. Я мог бы еще добрый час перечислять подобные причины, однако ограничусь тем, что уже сказано. Ибо Китти — не Михаэла, и ее пристрастия не играют такой уж большой роли. Одним словом, Китти всем сердцем полюбила князя, и мало кто был ей так по душе, как Ваня.
Едва положив ложку после ужина, она уже изобретала предлог, чтобы скрыться. И — бегом на кухню. Что касается моих собственных пристрастий, то я разделял вкусы Китти. Допив кофе, я извинялся перед Михаэлой, говоря: пойду посмотрю, что делает Китти, — и исчезал тоже.
Уже с верхней площадки лестницы я слышал шум и громыхающий голос, выводящий: «…как ягнят у нас народится без счету…»
Жаль, руки мои не так длинны, чтоб раскинуть их во всю ширь этой песни, под звуки которой я спустился в кухню и увидел моих любимцев в сборе.
Они сидели тесной группкой, обгладывая кости. Слушали, мурлыкали себе под нос. Приятно было на них смотреть. Китти устроилась поближе к Ване, рядом i ней — Марцел. Но этот хитрец уселся так, чтобы видеть лицо певца, и взирал на него словно на какого-нибудь святого.
— Эй, Иван Ильич, — начал я на своем распрекрасном русском языке, — не хочешь ли спеть что-нибудь покороче, повеселее, да не такое громкое? Или, может, лучше выпьешь ликерчику?
— Благодарствую, — отвечал Ваня, обнажая в улыбке зубы, — только князь запретил мне пить до второго завтрака.
Франтишка хотела было отпустить какое-то замечание насчет этого запрета, но Ваня отложил гармошку и, широко загребая руками, привлек ее к себе, после чего затянул о «полку, под крепостью стоявшем». Мы присоединились к нему, а напевшись, стали рассказывать разные истории: о бабке, которая ворон считала, о мастеровых на крестинах, о белых ночах, о гвардейце без эполет и о многом другом.
Ваня плел одну байку за другой, но так как при всей своей доброте он был изрядно плутоват и больше внимания уделял женскому персоналу, чем повествованию, то и перепутал рассказ о бабке с рассказом о гвардейце и в конце концов понес уже совершенную чепуху.
Франтишка шлепнула его по руке и сказала, чтобы он ее не щипал, а лучше следил бы за тем, что говорит.
Неужто не знаете вы какой-нибудь истории из жизни? Что-нибудь такое, что было на самом деле? Чего это вы рассказываете нам, как бедняки своего добра лишились! Давайте-ка что-нибудь из придворной жизни!
Ну да, — возразил Ваня, — вам расскажи, а кто-нибудь и растрезвонит! Вы что, Федора Николавна, думаете — охота мне в Сибирь шагать?
Ах вы, медведь! — сказала на это Франтишка. — Еще шутки над нами шутит! Да кабы вы где побывали, так уж, верно, почесали бы язычок-то, а просто ходили вы за лошадьми, вот и вся ваша служба!
Во время этих пререканий Марцел так и ерзал на месте, а Китти кусала ногти, так что чуть-чуть не прокусила свои маленькие пальчики. Она просто сгорала от любопытства, чем кончится эта перепалка. Ваня в свою защиту принялся перечислять все места, где он побывал. При этом был упомянут и князь.
Тут посыпались всякие вопросы, шутки и насмешки. Половина людей стояла за князя, половина против него, но никто не желал удовольствоваться словами, брошенными на ветер. Китти до того была предана друзьям, что и слышать не могла, как отрицают хоть малейшую их заслугу. Это терзало ей слух.
Стоило Бане произнести слово «царь», как девицы покатывались со смеху, а когда он говорил «святая Русь», обязательно находился кто-нибудь, чтобы резко осадить его:
— Да ну тебя, Русь твоя давно уже красная!
Одним словом, что бы наш Ваня ни говорил, вечно выискивались противники. Здесь тоже было два лагеря. В одном твердят: «война, армия, кровь, знамена!» В другом: «грабежи, убийства, мародерство, кровопролитие, виселицы». И в конце концов даже упрекают Ваню — зачем он валяется тут, как кабан, вместо того чтобы ходить в России за плугом.
Китти понимала лишь половину из того, что говорилось, но все же и ей было ясно, что рассказы ее любимца наталкиваются на возражения и что за каждым его словом может быть скрыта ложь. Она понимала, что вся кухня и каждый в отдельности считает Ваню простодушным дурачком и что его подозревают в предательстве или слабоумии.
Бедный Ваня не умел этого опровергнуть. Он и впрямь, был великим простаком. И стоял он, растерянный, глупый, обманутый, исполненный веры, бездумной, как у неразумной твари. В такие минуты все его шалости с девушками смахивали на непристойные выходки завсегдатая борделя. Он был смешон и не внушал никакого доверия, когда стоял вот так, с гусиной ножкой в руке, не зная, что делать — обсасывать эту ножку или сердиться.
Поскольку же все движения души отражались на его лице, как время на циферблате часов, то все мы видели пот его смятения, и его беспомощность, и страх. Он оглядывался на дверь в ожидании помощи, которая не приходила. Пожалуй, он отдал бы сейчас все свое благополучие, только бы вошел сюда ненароком его господин.
Что мог ответить Ваня? Чем доказать свои слова? Он ничего не знал, кроме того, что всей Россией правит царь и что государь этот заповедал ему быть верным. И вот царь лежит теперь в страшной могиле. Его лицо разлагается, его члены недвижны — ужасные атрибуты Костлявой повергают ниц злополучного Ваню. А соборные хоры и глагол святых колоколов, звон тысяч колоколен, голос всех блаженных, всех угодников божьих велят ему кричать из глубины души: «Мой царь жив! Верую! Верую! Верую! Мой царь — царит!»
И это слово в устах глупца, это слово в устах обжоры, это слабое и бессильное слово в сердце истукана из живой плоти, столь чрезмерно возлюбившего праздник Воскресения, это слово осла, столь возлюбившего мир, превратило Ваню в гвардейца, который стреляет и ходит в атаки и с пеною на губах шагает по полю боя, обагряясь кровью.
И когда он стоял, распаленный до потери рассудка, выкрикивая свои убеждения и призывая в свидетели богородицу, — столько нежной глупости было в его вере, что кое-кто из старых дев (не говоря о малолетних детях) принял его сторону.