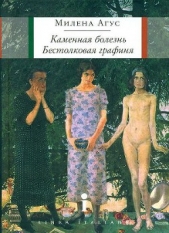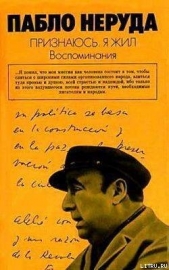Динарская бабочка

Динарская бабочка читать книгу онлайн
Рассказы Эудженио Монтале — неотъемлемая часть творческого наследия известного итальянского поэта, Нобелевского лауреата 1975 года. Книга, во многом автобиографическая, переносит нас в Италию начала века, в позорные для родины Возрождения времена фашизма, в первые послевоенные годы. Голос автора — это голос собеседника, то мягкого, грустного, ироничного, то жесткого, гневного, язвительного. Встреча с Монтале-прозаиком обещает читателям увлекательное путешествие в фантастический мир, где все правда — даже то, что кажется вымыслом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В тот вечер я видел синьора Стэппса в последний раз, но время, когда я нуждался в нем, уже близилось к закату под звуки победных гимнов. Несколько дней спустя, поднявшись вечером на вершину холма, я обнаружил комнату с круглыми окнами запертой, и сторож виллы Янгов сказал мне, что синьор Стэппс неожиданно уехал и просил передать мне привет. Остается добавить, что с тех пор я ничего о нем не слышал. О Сноу мне известно, что бедная птаха не вынесла нарушения диеты, назначенной орнитологом из Университета Джона Хопкинса, и на следующий день после нашего с Антонио визита ее нашли мертвой на жердочке в жаркой клетке. Ей было, по словам сторожа, ровно одиннадцать лет и три месяца. Перед отъездом синьор Стэппс сам похоронил ее в саду Привидения.
ДОМИНИКО
Письмо из Бразилии от Доминико стало для меня главной новостью последних дней. Оно было написано на той смеси американского английского с сицилийским диалектом, из-за которой я и раньше понимал его с трудом; а каково теперь, когда к этому языковому гибриду недавно примешался в немыслимых сочетаниях еще и новый для Доминико бразильский португальский! «Write те, напиши меня, — прочел я, — ваша эпистола вечер (sic [73]) muito desejada por mim» [74]. Как раз вчера мне попалась на глаза групповая фотография десятилетней давности, где бывший тогда во Флоренции Доминико, первый, разумеется, inter pares [75], запечатлен в обществе каких-то фашистских бонз. В городе, где что ни день открывалась какая-нибудь выставка или проходила церемония, имевшая хотя бы отдаленное отношение к культуре и сопровождавшаяся щедрой раздачей пирожных и напитков, Доминико, неизменно готовый из гастрономических соображений появиться по собственной инициативе в соответствующий час в соответствующем месте, был одним из самых фотографируемых и популярных людей. Никто не знал его имени, но во Флоренции ни один праздник, ни один «слет» (это слово тогда слышалось всюду) не обходились без Доминико Браги: с изрядным треугольником торта «наполеон» в руке он стоял в первом ряду, улыбаясь резкой вспышке магния.
На этом снимке он сидит рядом с префектом и секретарем городского отделения фашистской партии в своей обычной вязаной фуфайке и обтрепанных брюках; сандалии просятся в починку; мясистый рот тонет в длинных усах. Монгольские глазки сияют от удовольствия, а над головой крупными печатными буквами перечисляются достоинства Флоренции, города науки с полями для гольфа на восемнадцать лунок и круглогодичными Picturesque sightseeings in Tuscany [76], традиционным пасхальным фейерверком, праздником винограда в Импрунете и другими достопримечательностями.
Прекрасный мир для Доминико, пока этому миру не пришел конец; прекрасная, без забот и обязательств, жизнь — чувствовать себя итальянцем наполовину, защищенным американским паспортом и легким бременем культуры, где Данте и Лоренцо Медичи, Гарибальди и Мадзини вкупе с Линкольном или Джефферсоном, Уитменом или Улиссом Грантом являли поистине picturesque sightseeing [77], ретроспективный взгляд на вселенную, ослепленную светом новой имажистской поэзии, за самого значительного, после Эзры Паунда, представителя которой гордо выдавал себя американец Доминико Брага, сын перекочевавшего в Бриджпорт аптекаря из сицилийского городка Лингваглоссы. Он плохо, как я уже заметил, знал итальянский, и его английский, мягко говоря, нельзя было назвать безупречным; разговорным языком для него был язык Лингваглоссы, тоже забытый или исковерканный. Тем не менее, в двадцать лет Доминико услышал the call of Italy, зов родины, и нанялся учеником кока на «Дарданус», грузовой корабль, плывший в Голландию. В пути ему неожиданно улыбнулась удача, настоящий lucky strike [78]: судовой пекарь, закоренелый пессимист, читатель Шопенгауэра и Гартмана, покончил с собой, бросившись за борт, и Доминико занял его место, что позволило ему, по прибытии в Амстердам, получить сумму, достаточную для покупки мопеда «Пегас», на котором он отправился в путь по Европе. На Сен-Бернарском перевале его «Пегас» сбил корову, и Доминико пришлось отдать хозяину раненой скотины останки своего драндулета и продолжить путь пешком.
Во Флоренции желтая фуфайка тотчас обрела популярность, и такого ненасытного пожирателя эклеров, каким стал Доминико в считанные дни, на фуршетах еще не видели. Он питался пирожными и только в исключительных случаях — макаронами, коими последователи брата Милитоне из местных монастырей снова и снова потчевали его, делая вид, будто не замечают, что он подходит к ним по три-четыре раза [79]. Доминико нравилась мишурная жизнь города студентов и иностранцев, его принципы с намеком на демократичность не мешали ему находить привлекательным карнавальный режим, который допустили тогдашние итальянцы и который в его глазах прекрасно гармонировал с палио, с футболом в средневековых костюмах и с другими местными достопамятностями. Что город, то норов, — и Доминико не углублялся в частности, тем более, что Учитель, Эзра, убедил его, будто в Италии не хватает только арахисовых плантаций, а во всем остальном она является «неизменным и действенным образцом авторитарной демократии» [80].
Так что же нас не устраивало? Доминико Брага не склонял слуха к жалобам своих новых друзей, все у нас ему нравилось, особенно были по душе массовые зрелища, представления под открытым небом в саду «Боболи», он их никогда не пропускал, но за вход не платил, возникая из-за кустов одновременно с эльфами, послушными режиссерской воле Рейнхардта [81], неизменно улыбающийся, в неизменной желтой фуфайке, неизменно готовый занять место в первом ряду. Единственное недоразумение случилось однажды, когда он приютил в своей мрачной мансарде на улице Паникале двух новых знакомых, с которыми, к моему великому сожалению, свел его не кто иной, как я. Втроем они легли спать на узкой кровати — Брага, пролетарский писатель Морлюски и болгарский художник Ангелов. И среди ночи рабочие типографии, помещавшейся на нижнем этаже, услышали крики: «Гангстер! Продажная шкура! Шпион!» — свидетельство яростного идеологического спора между тремя бродягами. Возможно, ворочаясь без сна, гости поняли из разговора с Доминико, что он принадлежит к ненавистным силам «реакции» и попытались столкнуть его на пол. В конечном счете враги помирились: скорее всего, appeasement [82] произошло благодаря тому, что комизм ситуации перевесил политические убеждения… Кстати, через несколько дней Доминико покинул Флоренцию, и, насколько я знаю, продолжил в Америке вести праздный образ жизни, умудряясь раз в четыре года печатать стихи и рассказы в эфемерных газетах, как грибы после дождя плодящихся во всех штатах за несколько месяцев до выборов.
Что я смогу рассказать ему сегодня в своей muito desejada эпистоле? Лингвистические трудности ничто по сравнению с идейными разногласиями. Удастся ли мне объяснить ему, что сейчас происходит в Италии? Чистая душа, невинная душа, Доминико Брага — один из тех людей, кто делают непонятной и даже нежеланной часть человечества без родины, без территории, — часть человечества, к которой не применимы законы классиков утопии. Такие люди, как он, могут выпасть из установленного порядка и выпростаться из сетей истории только благодаря конформизму большинства, благодаря тому, что легионы существ согласны носить общий ярлык, отказавшись от собственных лиц и собственной судьбы.