Детство. В людях. Мои университеты

Детство. В людях. Мои университеты читать книгу онлайн
Вступительная статья Даниила Гранина. Иллюстрации Б. Дехтерева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Акулина Ивановна!
Всем улыбаясь одинаково ласково, ко всем мягко внимательная, Акулина Ивановна заправляла большим пальцем табак в ноздри, аккуратно вытирала нос и палец красным клетчатым платком и говорила:
— Против вошей, сударыня моя, надо чаще в бане мыться, мятным паром надобно париться; а коли вошь подкожная, — берите гусиного сала, чистейшего, столовую ложку, чайную сулемы, три капли веских ртути, разотрите всё это семь раз на блюдце черепочком фаянсовым и мажьте! Ежели деревянной ложкой али костью будете тереть, — ртуть пропадет; меди, серебра не допускайте, — вредно!
Иногда она задумчиво советовала:
— Вы, матушка, в Печёры, [22] к Асафу-схимнику сходите, — не умею я ответить вам.
Она служила повитухой, разбирала семейные ссоры и споры, лечила детей, сказывала наизусть «Сон богородицы», чтобы женщины заучивали его «на счастье», давала хозяйственные советы:
— Огурец сам скажет, когда его солить пора; ежели он перестал землей и всякими чужими запахами пахнуть, тут вы его и берите. Квас нужно обидеть, чтобы ядрен был, разъярился; квас сладкого не любит, так вы его изюмцем заправьте, а то сахару бросьте, золотник на ведро. Варенцы делают разно: есть дунайский вкус и гишпанский, а то еще — кавказский…
Я весь день вертелся около нее в саду, на дворе, ходил к соседкам, где она часами пила чай, непрерывно рассказывая всякие истории; я как бы прирос к ней и не помню, чтоб в эту пору жизни видел что-либо иное, кроме неугомонной, неустанно доброй старухи.
Иногда, на краткое время, являлась откуда-то мать; гордая, строгая, она смотрела на всё холодными серыми глазами, как зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминаний о себе.
Однажды я спросил бабушку:
— Ты — колдунья?
— Ну, вот еще выдумал! — усмехнулась она и тотчас же задумчиво прибавила: — Где уж мне: колдовство — наука трудная. А я вот и грамоты не знаю — ни аза; дедушка-то вон какой грамотей едучий, а меня не умудрила богородица.
И открывала предо мною еще кусок своей жизни:
— Я ведь тоже сиротой росла, матушка моя бобылка была, увечный человек; еще в девушках ее барин напугал. Она ночью со страха выкинулась из окна да бок себе и перебила, плечо ушибла тоже, с того у нее рука правая, самонужная, отсохла, а была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она барам ненадобна, и дали они ей вольную, — живи-де, как сама знаешь, — а как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру, за милостью к людям, а в та пора люди-то богаче жили, добрее были, — славные балахонские плотники да кружевницы, — всё напоказ народ! Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-осенью по городу, а как Гаврило архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет, — так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по тихой Оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава бархатная; пресвятая богородица цветами осыпала поля, тут тебе радость, тут ли сердцу простор! А матушка-то, бывало, прикроет синие глаза да как заведет песню на великую высоту, — голосок у ней не силен был, а звонок — и всё кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает ее. Хорошо было Христа ради жить! А как минуло мне девять лет, зазорно стало матушке по миру водить меня, застыдилась она и осела на Балахне; кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках — по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь-учусь, хочется скорее помочь матушке-то; бывало, не удается чего, — слезы лью. В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам; ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки! А я и рада, мне праздник! Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хоть и об одной руке, сама-то не работница, так ведь показать умела. А хороший указчик дороже десяти работников. Ну, тут загордилась я: ты, мол, матушка, бросай по миру собирать, теперь я тебя одна-сама прокормлю! А она мне: «Молчи-ка знай, это тебе на приданое копится». Тут вскоре и дедушка насунулся, заметный парень был: двадцать два года, а уж водолив! Высмотрела меня мать его, [23] видит: работница я, нищего человека дочь, значит смирной буду, н-ну… А была она калашница и злой души баба, не тем будь помянута… Эхма, что нам про злых вспоминать? Господь и сам их видит; он их видит, а беси любят.
И она смеется сердечным смешком, нос ее дрожит уморительно, а глаза, задумчиво светясь, ласкают меня, говоря обо всем еще понятнее, чем слова.
Помню, был тихий вечер; мы с бабушкой пили чай в комнате деда; он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем, и, ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя.
— Что мне сахару не даешь? — капризным тоном балованного ребенка спрашивал он бабушку. Она отвечала ласково, но твердо:
— С медом пей, это тебе лучше!
Задыхаясь, крякая, он быстро глотал горячий чай и говорил:
— Ты гляди, не помереть бы мне!
— Не бойся, догляжу.
— То-то! Теперь помереть — это будет как бы вовсе и не жил, — всё прахом пойдет!
— А ты не говори, лежи немо!
С минуту он молчал, закрыв глаза, почмокивая темными губами, и вдруг, точно уколотый, встряхивался, соображал вслух:
— Яшку с Мишкой женить надобно как можно скорей; может, жены да новые дети попридержат их, — а?
И вспоминал, у кого в городе есть подходящие невесты. Бабушка помалкивала, выпивая чашку за чашкой; я сидел у окна, глядя, как рдеет над городом вечерняя заря и красно сверкают стекла в окнах домов, — дедушка запретил мне гулять по двору и саду за какую-то провинность.
В саду, вокруг берез, гудя, летали жуки, бондарь работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге, шумно возились ребятишки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.
Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня:
— Ну-ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это — аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это — что? [24]
— Буки.
— Попал! Это?
— Веди.
— Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть, — это что?
— Добро.
— Попал! Это?
— Глаголь.
— Верно! А это?
— Аз.
Вступилась бабушка:
— Лежал бы ты, отец, смирно…
— Стой, молчи! Это мне в пору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Лексей!
Он обнял меня за шею горячей, влажной рукою и через плечо мое тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком, я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:
— Земля! Люди!
Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» — на сутулого Григория, «я» — на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и вразбивку; он заразил меня своей горячей яростью, я тоже вспотел и кричал во всё горло. Это смешило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел:
— Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего?
— Это вы кричите…
Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щеки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря:
— Да будет вам надрываться-то!..
Дед объяснял мне дружески:
— Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?
И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:
— А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету; память, слава богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!

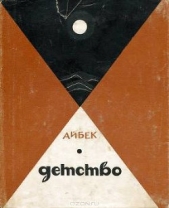

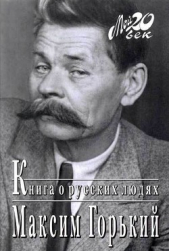

![Биограф[ия]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)




















