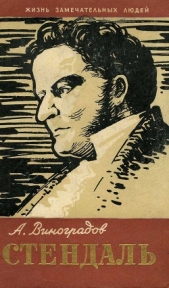Три певца своей жизни (Казанова, Стендаль, Толстой)

Три певца своей жизни (Казанова, Стендаль, Толстой) читать книгу онлайн
`Казанова, Стендаль, Толстой - писал С. Цвейг, знакомя читателей с этой книгой, - я знаю, сопоставление этих трех имен звучит скорее неожиданно, чем убедительно, и трудно себе представить плоскость, где беспутный, аморальный жулик… Казанова встречается стаким героическим поборником нравственности и совершенным изобразителем, как Толстой. В действительности же… эти три имени символизируют три ступени - одну выше другой… в пределах одной и той же творческой функции: самоизображения`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потрясающее зрелище: Казанова разоружен, старый герой неисчислимых любовных битв, божественный наглец и отважный игрок становится осторожным и скромным; тихо, подавленно и молчаливо уходит великий commediante in fortuna со сцены своих успехов. Он снимает богатое одеяние, "не соответствующее положению", откладывает в сторону вместе с кольцами, бриллиантовыми пряжками и табакерками величавую надменность, сбрасывает под стол, как битую карту, свою философию, старясь, сгибает голову перед железным, непоколебимым законом жизни, благодаря которому завядшие проститутки превращаются в сводниц, игроки в шулеров, авантюристы в приживальщиков. С тех пор как кровь не так горячо бурлит в его теле, старый citoyen du monde [104] вдруг начинает мерзнуть в когда-то столь любимой беспредельности мира и даже сентиментально тосковать по родине. И прежний гордец - бедный Казанова, не сумевший благородно довести жизнь до конца! раскаявшись, виновато склоняет чело и жалостливо просит венецианское правительство о прощении, он пишет льстивые донесения инквизиторам, сочиняет патриотический памфлет - "опровержение" нападок на венецианское правительство, памфлет, в котором не постеснялся написать, что тюрьмы, где он когда-то томился, представляют "помещения с хорошим воздухом" и являются даже раем гуманности. Об этих, самых печальных эпизодах его жизни ничего не сказано в мемуарах, которые обрываются раньше и не повествуют о годах стыда. Он прячется во тьме, может быть, чтобы скрыть краску стыда, и почти что радуешься этому, ибо как печально, как жалко пародирует эта ободранная, хромающая тень смелого воина игры и любви, этот обратившийся в чучело самец, этот безголовый певец, - победного весельчака, которому мы так упорно завидовали!
А потом, в продолжение целого ряда лет, бродит неслышно по Мерчерии толстый полнокровный господин, не слишком хорошо одетый, внимательно прислушивается, о чем говорят венецианцы, заходит в кабаки, чтобы наблюдать за подозрительными личностями, и царапает вечерами длинные шпионские доносы инквизиторам: именем Анджело Пратолини подписаны эти нечистоплотные информации, псевдонимом помилованного провокатора и услужливого шпиончика, за несколько золотых ввергающего людей в те же тюрьмы, где сам сиживал в молодости и описание которых сделало его известным. Да, разукрашенный, как чепрак, шевалье де Сенгаль, любимец женщин, превратился в Анджело Пратолини, откровенного, презренного доносчика и негодяя; некогда осыпанные бриллиантами пальцы роются в грязных делах и разбрызгивают чернильный яд и желчь направо и налево, пока Венеция не находит наконец нужным освободиться от этого надоедливого сутяги пинком ноги. О последующих годах сведений нет, и никто не знает, какими печальными путями двигалось полуразбитое судно, пока не потерпело наконец полного крушения в Богемии; еще раз кочует этот старый авантюрист по всей Европе, разливается соловьем перед богатыми, пробует свои старые фокусы: шулерство, кабалистику и сводничество. Но покровительствовавшие его молодости боги - наглость и уверенность в себе оставили его, женщины смеются ему в морщинистое лицо, он больше не подымается, он тяжко коротает дни в роли секретаря (и, вероятно, опять шпиона) при посланнике в Вене, жалкий писака, ненужный, нежеланный и вечно выгоняемый полицией гость всех европейских городов. В Вене он наконец собрался жениться на нимфе с Грабена [105], чтобы благодаря ее прибыльной профессии быть несколько более обеспеченным; но и это ему не удается. Наконец, богатейший граф Вальдштейн, адепт тайных наук, узнает в Париже о
poete errant de rivage en rivage,
Triste jouet des flots et rebut de naufrage [106],
сердобольно его отыскивает, находит удовольствие в разговоре с постаревшим, но все еще занимательным циником и милостиво берет с собой в Дукс на должность библиотекаря, а заодно и придворного шута; за тысячу гульденов ежегодного жалованья - правда, всегда забранного вперед у ростовщиков - покупают этот курьез, не переплачивая за него. И там, в Дуксе, он живет - вернее, умирает - тринадцать лет.
В Дуксе вдруг появляется, после долгих лет пребывания в тени, этот образ, Казанова или, скорее, что-то смутно напоминающее Казанову, его мумия, иссохшая, худая, колючая, замаринованная в собственной желчи, странная музейная реликвия, которую граф охотно демонстрирует своим гостям. Вы скажете, что это выжженный кратер, забавный и безопасный, смехотворно холерический южанин, медленно погибающий от скуки в богемской клетке. Но этот обманщик еще раз дурачит мир. Когда все думают, что с ним уже покончено, что его ждет лишь кладбище и гроб, он в воспоминаниях снова воссоздает свою жизнь и хитрой авантюрой пролезает в бессмертие.
ПОРТРЕТ КАЗАНОВЫ В СТАРОСТИ
Altera nunc rerum facies, me quaero, nec adsum. Non sum, qui fueram, non putor esse: fui [107].
Подпись на его портрете в старости
Годы 1797-1798. Кровавая метла революции покончила с галантным веком, головы христианнейших короля и королевы [108] скатились в корзину гильотины, и маленький корсиканский генерал [109] послал к черту десять дюжин князей и князьков, а с ними и господ венецианских инквизиторов. Теперь читают не энциклопедию, не Вольтера и Руссо, а трескучие бюллетени с театра военных действий. Великий пост покрыл пеплом Европу, кончились карнавалы, и миновало рококо с его кринолинами и напудренными париками, с серебряными пряжками на туфлях и брюссельскими кружевами. Уж не носят бархатных камзолов, - их сменили мундир и буржуазный костюм.
Но странно: живет человек, забывший о времени, - старый-престарый человечек, забившийся где-то там, в самом темном уголке Богемии, как кавалер Глюк в легенде Э. Т. А. Гофмана, - среди белого дня спускается тяжелой поступью по неровной мостовой похожий на пеструю птицу человечек в бархатном жилете с позолоченными пуговицами, в поношенном пальто, в кружевном воротнике, в шелковых чулках, украшенных цветочками подвязках и парадной шляпе с белыми перьями.
Этот живой курьез носит еще по старинному обычаю косу, хотя и плохо напудренную (у него теперь нет слуг!), и дрожащая рука величественно опирается на старомодную трость с золотым набалдашником - такую, как носили в Пале-Рояле в 1730 году. В самом деле - это Казанова или, вернее, его мумия; он все еще жив, несмотря на бедность, злобу и сифилис. Кожа стала пергаментной, нос - крючковатый клюв - выдается над дрожащим слюнявым ртом, густые поседевшие брови растрепаны; все это говорит о старости и тлении, об омертвении в желчной злобе и книжной пыли. Только черные как смоль глаза, полные прежнего беспокойства, зло и остро бегают под полузакрытыми веками. Но он недолго бросает взгляды направо и налево, он угрюмо ворчит и брюзжит про себя, ибо он не в духе: Казанова всегда не в духе с тех пор, как судьба швырнула его в эту богемскую навозную кучу. Зачем подымать глаза, если каждый взор будет слишком большой честью для этих глупых ротозеев, этих широкомордых немецко-богемских пожирателей картошки, которые не высовывают носа за пределы своей грязной деревни и даже не приветствуют, как должно, его, шевалье де Сенгаль, который в свое время всадил пулю в живот польского гофмаршала и получил из собственных рук папы золотые шпоры. И женщины - это еще неприятнее - не оказывают ему уважения; они прикрывают рот рукою, чтобы сдержать грубый, мужицкий смех; они знают, над чем смеются: служанки рассказали пастору, что старый подагрик нередко залезает рукой под юбки и на своем непонятном языке шепчет им на ухо всякие глупости. Но эта чернь все же лучше, чем проклятая челядь, на волю которой он отдан дома, "ослы, пинки которых он должен терпеть", - прежде всего Фельткирхнер, домоправитель, и Видерхольт, его помощник. Канальи! Они нарочно вчера опять пересолили его суп и сожгли макароны, вырвали портрет из его "Икозамерона" и повесили его в клозете; эти негодяи осмелились поколотить его маленькую, в черных пятнах, собачку Мелампигу (Чернозадку), подаренную ему графиней Роггендорф, только за то, что милый зверек напакостил в комнатах. О, где прекрасные времена, когда этот лакейский сброд можно было просто заковать в колодки и переломать кости всей своре, вместо того чтобы терпеть подобные дерзости. Но в наши дни, благодаря Робеспьеру, эти канальи подняли голову, якобинцы замарали эпоху, и сам он теперь только старый, несчастный, беззубый пес. Тут не помогут сетования, брюзжание и воркотня, лучше наплевать на этот сброд, подняться в свою комнату и читать Горация.