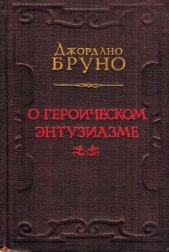Трактат о манекенах
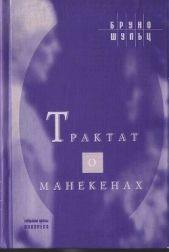
Трактат о манекенах читать книгу онлайн
Бруно Шульц — выдающийся польский писатель, классик литературы XX века, погибший во время Второй мировой войны, предстает в «Трактате о манекенах» блистательным стилистом, новатором, тонким психологом, проникновенным созерцателем и глубоким философом.
Интимный мир человека, увиденный писателем, насыщенный переживаниями прелести бытия и ревностью по уходящему времени, преображается Бруно Шульцем в чудесный космос, наделяется вневременными координатами и светозарной силой.
Книга составлена и переведена Леонидом Цывьяном, известным переводчиком, награжденным орденом «За заслуги перед Польской культурой».
В «Трактате о манекенах» впервые представлена вся художественная проза писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уже неоднократно подавали мы в нашем рассказе кое-какие предостерегающие знаки, все время осторожно делали определенные оговорки. Внимательный читатель не окажется неподготовленным к тому, как обернется дело. Мы говорили об имитативном и иллюзорном характере квартала, но у этих слов слишком точное и определенное значение, чтобы очертить половинчатость и неопределенность того, что существует в действительности.
Нет в языке слов, которые смогли бы как-то дозировать степень реальности, определить ее плотность. Так будем же говорить без обиняков: у этого района роковая особенность — в нем ничто не доводится до конца, не доходит до завершения, все начатые движения повисают в воздухе, все жесты заранее исчерпаны и не могут перейти через некую мертвую точку. Мы могли уже заметить изобилие и расточительность — в замыслах, проектах, намерениях, — отличающие этот район. И весь он является всего лишь брожением желаний, преждевременно проявившимся и оттого бессильным и пустым. Здесь в атмосфере чрезмерной легкости малейший каприз, мимолетное напряжение пускает ростки, взбухает и разрастается полым, вздутым наростом, тянется к небу серыми легкими стеблями пушистых сорняков, бесцветных мохнатых маков, созданных из невесомой ткани миражей и гашиша. Над всем районом поднимается ленивый, разнузданный туман греховности, и дома, магазины, люди порой кажутся дрожью горячечного тела квартала, гусиной кожей его лихорадочного бреда. Здесь, как нигде, мы напуганы возможностями, потрясены близостью исполнения, бледнеем и теряем силы от сладостной робости перед свершением. Но на этом все и кончается.
Перейдя некую границу напряжения, прилив останавливается и отступает, атмосфера отцветает и гаснет, безумные серые маки возбуждения рассыпаются прахом.
Мы будем вечно сожалеть о том, что вышли на минутку из сомнительного магазина конфекциона, но уже никогда больше не попадем в него. Будем ходить от вывески к вывеске и сотни раз будем ошибаться. Будем заходить в десятки магазинов, попадать в точно такие же, будем бродить вдоль стеллажей с книгами, перебирать журналы и открытки, долго и путано объясняться с девушками, лица которых подпорчены пигментными пятнами, но они не поймут наших намерений.
Мы будем увязать в недоразумениях, пока наша горячность и возбуждение не остынут от безрезультатности усилий, в напрасной погоне.
Наши надежды оказались ложными, двусмысленный вид зала и продавщиц — видимостью, конфекцион — обычным конфекционом, а у приказчика не было никаких скрытых намерений. Женская половина обитателей Крокодильей улицы отличается весьма умеренной порочностью, приглушенной к тому же толстым слоем предрассудков и мещанской заурядности. В этом городе дешевого человеческого материала нету буйства инстинктов, нет здесь и диковинных темных страстей.
Крокодилья улица была заявкой нашего города на современность и столичную испорченность. Но, видимо, нас хватило только на бумажную имитацию, на фотомонтаж, склеенный из вырезок пожелтевших прошлогодних газет.
Тараканы
Случилось это в серые дни, что пришли на смену великолепной красочности гениальной эпохи отца. То были долгие недели уныния, тяжелые недели без воскресений и праздников, под замкнутыми небесами и в убогом пейзаже. Отца уже не было. В верхних комнатах сделали уборку и сдали их какой-то телефонистке. От всего птичьего хозяйства у нас остался только один экземпляр: чучело кондора, стоящее на полке в гостиной. В холодном полумраке, созданном задернутыми шторами, он стоял, как и при жизни, на одной ноге, в позе буддийского мудреца, а его скорбное, высохшее лицо аскета окаменело в гримасе полнейшей безучастности и отрешенности. Глаза у него выпали, и из слезящихся, выплаканных глазниц сыпались опилки. Только ороговевшие египетские наросты на голом клюве да на лысой шее, наросты и бугры блекло-голубого цвета придавали его старческой голове нечто возвышенно жреческое.
Его ряса во многих местах была трачена молью и роняла мягкие серые перья, которые раз в неделю Аделя выметала вместе с безымянным сором, скопившимся в комнате. В пролысинах торчала грубая мешковина с вылезающими клочьями пеньки. В глубине души я был очень обижен на маму за ту легкость, с какой она перенесла утрату отца «Она его никогда не любила, — думал я, — а раз отец не укоренился в сердце ни одной женщины, то не смог врасти и в реальность, вечно витал на окраинах жизни, в полуреальных сферах, на границе действительности. Он даже не удостоился почтенной гражданской смерти — все у него было причудливо и сомнительно». Я решил при случае захватить маму врасплох и поговорить с нею на чистоту. В тот тяжелый зимний день уже с утра сыпался мягкий пух сумерек, мама страдала мигренью и лежала на софе в гостиной.
В этой нежилой парадной комнате после исчезновения отца царил образцовый порядок, который Аделя поддерживала с помощью воска и щеток. Мебель стояла в чехлах, она поддавалась железной дисциплине, которую насаждала тут Аделя. Только пучок павлиньих перьев, стоящий в вазе на комоде, не желал повиноваться. То был элемент своевольный, опасный, неуловимо анархичный, точно недисциплинированный класс гимназисток, на глазах благопристойный и набожный, а стоит отвернуться — распущенный и буйный. Глаза павлиньих перьев весь день напролет что-то высматривали, сверлили в стенах дыры, моргали, теснились, проказливые и насмешливые, трепеща ресницами, подавая друг другу предостерегающие знаки. Они наполняли комнату щебетом и шепотом, порхали, как бабочки вокруг многоветвенной лампы, яркой стайкой бились в матовые, постаревшие зеркала, отвыкшие от движения и веселья, заглядывали в замочные скважины. Даже при маме, которая лежала с завязанной головой на софе, они не могли сдержаться — перемигивались, обменивались тайными знаками, переговаривались радужной немой азбукой, исполненной секретного значения. Меня бесила эта издевательская болтовня, мерцающий сговор за моей спиной. Прижавшись коленями к софе и щупая, словно в задумчивости, тонкую материю маминого шлафрока, я произнес как бы невзначай:
— Я давно хотел у тебя спросить: правда, что это он?
И хотя я даже взглядом не указал на кондора, мама сразу догадалась, смешалась и опустила глаза. Я намеренно с минуту помолчал, чтобы насладиться ее замешательством, а потом совершенно спокойно, сдерживая растущий гнев, спросил:
— В таком случае какой смысл во всех этих враках и сплетнях, которые ты распускаешь об отце?
Но ее черты, панически рассыпавшиеся в первый момент, снова стали собираться.
— Какие сплетни? — спросила она, помаргивая пустыми глазами без белков, налитыми темной синевой.
— Мне рассказывала их Аделя, но я знаю, что они идут от тебя и хочу услышать правду.
Ее губы легко дрожали, зрачки, избегая моего взгляда, поползли к уголкам глаз.
— Я не лгала, — промолвила она, а губы у нее как-то набухли и в то же время стали меньше. Я почувствовал, что она по-женски кокетничает со мной. — С тараканами — это же правда, ты ведь сам помнишь…
Я растерялся. Да, действительно, я помнил нашествие тараканов, черное наводнение, наполнившее комнату ночной паучьей беготней. Из всех щелей торчали подергивающиеся усы, каждая расщелинка могла внезапно выстрелить тараканом, из каждой трещины могла вырваться черная молния и сумасшедшим зигзагом помчаться по полу. О, это дикое помешательство страха, вычерченное блестящей черной линией на таблице пола. О, испуганные крики отца, прыгающего со стула на стул с дротиком в руках. Отец совершенно одичал, на щеках у него горел лихорадочный румянец, судорога омерзения врезалась в углы рта, он не мог ни есть, ни пить. Было ясно, что такого напряжения ненависти никакой организм долго не выдержит. Страшное напряжение превратило его лицо в застывшую трагическую маску, и только зрачки, укрывавшиеся под нижними веками, были всегда настороже, напряженные, словно тетивы, в вечном высматривании. Внезапно он с диким воплем срывался со стула, слепо несся в угол и тотчас же поднимал дротик с нанизанным огромным тараканом, судорожно подергивающим лапками. Аделя немедленно приходила на помощь бледному от ужаса отцу, принимала у него оружие вместе с пронзенной добычей и топила таракана в помойной лохани. Правда, сейчас я не могу с уверенностью сказать, знаю ли я все это по рассказам Адели или сам был тому свидетелем. В ту пору отец уже утратил способность к сопротивлению, которая оберегает здоровых людей от зачарованности омерзительным. Вместо того чтобы отгородить себя от страшной притягательной силы этой зачарованности, отец, попав в плен неистовства, все больше запутывался в ней. Горестные последствия не заставили себя долго ждать. Вскоре появились первые подозрительные признаки, наполнившие нас ужасом и скорбью. Поведение отца изменилось. Его исступленность, эйфорическое возбуждение угасли. Жестикуляция и мимика выдавали, что совесть его нечиста. Он стал нас избегать. Целыми днями прятался по углам, в шкафах, под периной. Я не раз видел, как задумчиво рассматривает он свои руки, консистенцию кожи, ногтей, на которых стали выступать черные пятна, похожие на тараканий панцирь.