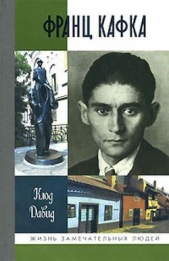Избранное
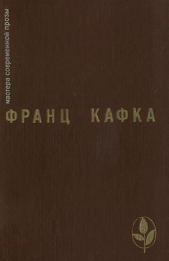
Избранное читать книгу онлайн
Франц Кафка — один из крупнейших немецкоязычных писателей, классик литературы XX века, оказавший огромное влияние на писателей разных стран.
В новое издание (впервые сборник Ф. Кафки был издан в СССР в 1965 году издательством «Прогресс») наряду с публиковавшимися романом «Процесс», новеллами и притчами разных лет вошли роман «Замок», отрывки из дневников (1910–1923), «Письмо отцу» и т.д.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
8 декабря. Вчера впервые после долгого перерыва был безусловно способен хорошо работать. И тем не менее написал только первую страницу главы о матери [93], потому что уже две ночи я почти совсем не спал, потому что с самого утра начинались головные боли и потому что я испытываю слишком большой страх перед завтрашним днем. Снова понял, что все написанное в отрывках и не за полночи (а то и за всю ночь) неполноценно и что условиями своей жизни я обречен на эту неполноценность.
13 декабря. Вместо того чтобы работать — я написал только одну страницу (толкование легенды [94]), — перечитывал готовые главы и нашел их отчасти удачными. Меня постоянно преследует мысль, что чувство удовлетворения и счастья, которое мне дает, например, легенда, должно быть оплачено, причем — чтобы никогда не знать передышки — оно должно быть оплачено тут же.
На днях был у Феликса. Возвращаясь домой, я сказал Максу, что, если только боли не будут слишком сильными, я на смертном одре буду чувствовать удовлетворение. Я забыл добавить, а потом уже намеренно не сказал, что лучшее из написанного мною исходит из этой готовности помереть удовлетворенным. Во всех сильных и убедительных местах речь всегда идет о том, что кто-то умирает, что ему это очень трудно, что в этом он видит несправедливость по отношению к себе или по меньшей мере жестокость, — читателя, во всяком случае, так мне кажется, это должно тронуть. Для меня же, думающего, что на смертном одре я смогу быть удовлетворенным, такого рода описания втайне являются игрой, я даже радуюсь возможности умереть в умирающем, расчетливо использую сосредоточенное на смерти внимание читателя, у меня гораздо более ясный разум, нежели у него, который, как я полагаю, будет жаловаться на смертном одре, и моя жалоба поэтому наиболее совершенна, она не обрывается внезапно, как настоящая жалоба, а кончается прекрасной и чистой нотой, подобно тому, как я всегда жаловался матери на страдания, которые были далеко не такими сильными, какими они представали в жалобе. Правда, перед матерью мне не требовалось столько искусности, сколько перед читателями.
14 декабря. Жалкая попытка ползти вперед — а ведь это, возможно, самое важное место в работе, где так необходима была бы одна хорошая ночь.
Поражения в Сербии, бестолковое командование.
19 декабря. Вчера почти бессознательно писал «Деревенского учителя» [95], но боялся писать позже, чем до без четверти два, боязнь эта обоснованная, я почти не спал, забывался только три раза в недолгих снах и потом в канцелярии пребывал в соответствующем состоянии. Вчера отец упрекал меня в связи с фабрикой: «Ты меня в это втравил». Потом я пошел домой и спокойно писал три часа, в сознании того, что моя вина бесспорна, хотя и не столь велика, как ее изображает отец. Сегодня, в субботу, не вышел к ужину отчасти из страха перед отцом, отчасти ради того, чтобы полностью использовать для работы ночь, но написал только одну и то не очень хорошую страницу.
Начало всякой новеллы сперва кажется нелепым. Кажется невероятным, чтобы этот новый, еще не сложившийся, крайне чувствительный организм мог устоять в сложившейся организации мира, которая, как всякая сложившаяся организация, стремится к замкнутости. При этом забываешь, что новелла, если она имеет право на существование, уже несет в себе свою сложившуюся организацию, пусть еще и не совсем развившуюся; потому отчаяние, охватывающее тебя, когда принимаешься за новеллу, в этом смысле беспочвенно; с таким же основанием должны бы отчаиваться родители при виде грудного ребенка, ибо они ведь хотели произвести на свет не это жалкое и совершенно нелепое существо. Правда, никогда не знаешь, обоснованно или необоснованно отчаяние, которое испытываешь. Но известную поддержку эта мысль может оказать; отсутствие такого опыта уже причинило мне вред.
20 декабря. Замечание Макса о Достоевском, о том, что в его произведениях слишком много душевнобольных. Совершенно неправильно. Это не душевнобольные. Обозначение болезни есть не что иное, как средство характеристики, причем средство очень мягкое и очень действенное. Например, если постоянно и очень настойчиво твердить человеку, что он ограничен и туп, то, если только в нем есть зерно достоевщины, это подстрекнет его проявить все свои возможности. С этой точки зрения характеризующие его слова имеют примерно то же значение, что и бранные слова, которыми обмениваются друзья. Когда они говорят: «Ты дурак», то это не означает, что тот, кому это адресовано, действительно дурак и они унизили себя дружбой с ним; чаще всего — если это не просто шутка, но даже и в таком случае — это заключает в себе бесконечное переплетение разных смыслов. Так, например, отец братьев Карамазовых отнюдь не дурак — он очень умный, почти равный по уму Ивану, но злой человек, и, во всяком случае, он умнее, к примеру, своего не разоблачаемого рассказчиком двоюродного брата или племянника, помещика, который считает себя настолько выше его.
23 декабря. Прочитал несколько страниц из «Лондонских туманов» [96] Герцена. Не понимал даже, о чем речь, и тем не менее предо мной полностью возник образ человека — решительного, истязающего самого себя, овладевающего собой и снова падающего духом.
26 декабря. В Куттенберге у Макса и его жены. Как я рассчитывал на эти четыре свободных дня, сколько часов думал, как их правильно употребить, и все же теперь, кажется, просчитался. Сегодня вечером почти не писал и, наверное, уже не в состоянии продолжать «Сельского учителя», над которым работаю целую неделю и которого за три свободные ночи я наверняка закончил бы набело и без явных погрешностей; теперь же, несмотря на то что он едва начат, в нем уже допущено два непоправимых промаха, и вообще он хилый. Отныне — новый распорядок дня! Еще лучше использовать время! Жалуюсь я здесь, чтобы в этом найти спасение? Эта тетрадь не даст мне его, оно придет, когда я буду в постели, оно уложит меня на спину, и я буду лежать красивый, легкий и голубовато-белый, другого спасения не будет.
31 декабря. С августа работал, в общем — немало и неплохо, но и в первом, и во втором отношении не в полную силу своих возможностей, как следовало бы, особенно если учесть, что по всем признакам (бессонница, головная боль, сердечная слабость) возможности мои скоро иссякнут. Работал над незаконченными вещами: «Процесс», «Воспоминания о железной дороге на Кальду», «Сельский учитель», «Младший прокурор» — и над началами более мелких рассказов. Готовы лишь «В исправительной колонии» и глава из романа «Пропавший без вести», оба — за время двухнедельного отпуска. Не знаю, зачем я составляю этот список, — это совсем не в моем характере!
1915
4 января. Большое желание начать новый рассказ, не поддаваться. Все бесполезно. Если я не могу гнать рассказы сквозь ночи, они удирают и пропадают, — это происходит сейчас с «Младшим прокурором». А завтра я иду на фабрику, после того как призвали П., я, наверное, должен буду ходить туда ежедневно во второй половине дня. Это положит конец всему. Мысли о фабрике — это мой бесконечный Судный День.
6 января. «Сельского учителя» и «Младшего прокурора» пока отложил. Но я почти не в силах продолжать и «Процесс». Мысли о девушке из Лемберга [97]. Надежда на какое-то счастье, подобная надеждам на вечную жизнь. С известного расстояния они кажутся обоснованными, а приблизиться не решаешься.