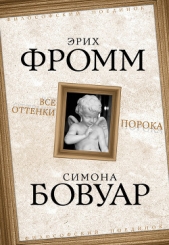Мандарины

Мандарины читать книгу онлайн
«Мандарины» — один из самых знаменитых романов XX в., вершина творчества Симоны де Бовуар, известной писательницы, философа, «исключительной женщины, наложившей отпечаток на все наше время» (Ф. Миттеран). События, описанные в книге, так или иначе связаны с крушением рожденных в годы Сопротивления надежд французской интеллигенции. Чтобы более полно представить послевоенную эпоху, автор вводит в повествование множество персонажей, главные из которых — писатели левых взглядов Анри Перрон и Робер Дюбрей (их прототипами стали А. Камю и Ж.-П. Сартр). Хотя основную интригу составляет ссора, а затем примирение этих двух незаурядных личностей, важное место в сюжете отведено и Анне, жене Дюбрея — в этом образе легко угадываются черты самой Симоны де Бовуар. Многое из того, о чем писательница поведала в своем лучшем, удостоенном Гонкуровской премии произведении, находит объяснение в женской судьбе как таковой и связано с положением женщины в современном мире. Роман, в течение нескольких десятилетий считавшийся настольной книгой западных интеллектуалов, становится наконец достоянием и русского читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вполне возможно, — согласился Анри.
— В искривленном пространстве нельзя провести прямую линию, — сказал Дюбрей. — Невозможно достойно жить в обществе, лишенном достоинства. Тебя всегда прижмут тем или иным способом. Еще одна иллюзия, от которой нам следует избавиться, — пришел он к выводу. — Нет приемлемого личного спасения.
Анри в растерянности посмотрел на Дюбрея.
— Что же нам в таком случае остается?
— Думаю, мало что, — отвечал Дюбрей.
Наступило молчание. Анри не чувствовал удовлетворения от такой обобщенной снисходительности.
— И все-таки мне хотелось бы знать, что бы вы сделали на моем месте? — спросил он.
— Не могу вам этого сказать, потому что я не был на вашем месте, — ответил Дюбрей. — Вы должны мне все подробно рассказать, — добавил он.
— Я все вам расскажу, — сказал Анри.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Без посадки в Гандере самолет направился прямо в Париж и прибыл на два часа раньше срока. Я оставила багаж на вокзале Инвалидов и села в автобус. Этим ранним утром, безлюдным и серым, мое тайное прибытие — ибо все думали, что я еще далеко в облаках, — граничило с нескромностью; какой-то мужчина подметал тротуар перед закрытыми воротами, мусорные ящики стояли полные: я явилась раньше, чем были установлены декорации и загримированы актеры. Разумеется, ты не посторонняя, если возвращаешься в свою собственную жизнь, и все-таки, когда я потихоньку, чтобы не разбудить Надин, открывала и закрывала дверь квартиры, мои осторожные движения создавали у меня смутное ощущение вины и опасности. Ни единого звука в кабинете Робера; я повернула фаянсовую ручку: он почти тут же поднял голову и, отодвинув кресло, с улыбкой обнял меня:
— Бедняжка моя! Ты являешься вот так, совсем одна! Я как раз собирался ехать за тобой.
— Самолет прилетел на два часа раньше, — сказала я, целуя его плохо выбритые щеки; он был в халате, всклокоченный, с отекшими от бессонницы глазами. — Вы работали всю ночь? Это очень плохо.
— Я хотел кое-что закончить до твоего возвращения. Перелет прошел хорошо? Ты не устала?
— Я все время спала. А вы? Когда за вами не следят, вы ведете себя неразумно.
Мы весело разговаривали, но вот Робер пошел в ванную комнату, и на меня опять нахлынула та тишина, от которой у меня перехватило дыхание в тот момент, когда через полуоткрытую дверь я увидела склоненную голову писавшего Робера, такого далекого от меня. Какая наполненность в этом кабинете, где я отсутствовала! Воздух насыщен табаком и работой; всемогущая мысль призывала сюда по своей прихоти прошлое, будущее, целый мир: все было на месте, никакого отсутствия. На полке — моя фотография, где я улыбаюсь, давнишняя фотография, которая никогда не постареет; она стояла на своем месте, а вот, чтобы для меня найти место в своих наполненных до краев днях, Роберу пришлось не спать всю ночь, и что-то он не успел закончить, потому что я вернулась слишком рано. Я встала. В дни возвращения или отъезда делаешь открытия, которые на деле, я знаю, не правдивее повседневной истины, но что толку знать и какой толк замечать расставленные ловушки, ведь все равно глупейшим образом в них попадаешь; только вот беда, мало было говорить себе это: выйти из такого состояния мне не удавалось. Какой нежилой казалась моя комната! И она оставалась такой же точно нежилой, пока я неуверенно бродила между окном и диваном. На столе лежали письма, люди спрашивали меня, когда я снова открою свой кабинет; Поль вышла из клиники и приглашала меня навестить ее. Я отметила, что ее почерк стал не таким детским, как раньше, и что она не делала больше орфографических ошибок; Мардрю в своем коротеньком письме подтверждал, что она выздоровела. Я пошла поцеловать Надин, она встретила меня снисходительно; ей надо было рассказать мне тысячу разных вещей, и я обещала ей свой вечер. Робер, Надин, друзья, работа, а между тем я застыла в прихожей, с изумлением спрашивая себя: «Что я здесь делаю?»
— Ты ждала меня? — спросил Робер. — Я готов.
Я была рада уйти из квартиры, прогуляться по улицам, не многолюдным и не пустынным; набережные, мануфактура Гобеленов, площадь Италии: мы долго шли, останавливаясь то тут, то там на террасах кафе, и пообедали в ресторане парка Монсури.
Робер почувствовал, что у меня нет желания говорить, а ему надо было рассказать мне так много всего, и он рассказывал. Он был гораздо веселее, чем до моего отъезда: не то чтобы международная обстановка казалась ему блестящей, но он снова обрел вкус к жизни. Много значило для него примирение с Анри; и книга его вызывала столько откликов, что, вопреки всякой логике, он начал писать другую. Политическая деятельность оставалась невозможной, но он определенно не отказывался размышлять; у него даже сложилось впечатление, что он только-только стал понемногу во всем разбираться. Я слушала его. И он был таким заразительно живым, что заставлял принять то прошлое, о котором говорил мне: это было мое прошлое, другого не существовало, так же как не существовало и никакого другого будущего, кроме того, о котором он возвещал. Скоро я увижу Анри и тоже буду радоваться этому; письма, которые Робер получил по поводу своей книги, — скоро я их прочту вместе с ним и буду потешаться или умиляться, как он, и, как он, буду рада отправиться вскоре в Италию.
— Тебе не в тягость снова пуститься в странствие после стольких путешествий? — спросил он меня.
— Вовсе нет. У меня нет ни малейшего желания оставаться в Париже.
Я смотрела на лужайки, на озеро, на лебедей; скоро настанет день, когда я снова полюблю Париж; у меня появятся неприятности, удовольствия, предпочтения, моя жизнь выплывет из тумана, настоящая, здешняя моя жизнь поглотит меня целиком. Внезапно я заговорила, мне требовалось подтверждение, что он тоже реален, тот мир, от которого меня отделяли океан, ночь; я рассказала о своей последней неделе. Но оказалось, что это еще хуже, чем хранить молчание; как и в прошлом году, я почувствовала себя ужасно виноватой. Робер все понимал, слишком хорошо понимал. А там Льюис просыпался в комнате, опустошенной моим отсутствием, он безмолвствовал, у него никого больше не было. Он остался один с моим пустым местом в своей кровати, в своих объятиях. Ничто никогда не искупит для него безутешную печаль этого утра: боль, которую я ему причиняла, была неискупима.
Когда мы вернулись вечером, Надин сказала:
— Звонила Поль, хотела узнать, дома ли ты.
— Это уже третий раз, — сказал Робер, — тебе надо повидаться с ней.
— Я пойду завтра. Мардрю уверяет, что она здорова, — добавила я, — а вы не знаете, что с ней на самом деле? Анри ее не видел?
— Нет, — ответила Надин.
— Мардрю не отпустил бы ее, если бы она действительно не выздоровела, — заметил Робер.
— Выздоровление выздоровлению рознь, — сказала я.
Перед тем как лечь спать, я долго беседовала с Надин; она снова встречалась с Анри и была этим очень довольна; меня она осаждала вопросами. На следующий день я позвонила Поль, чтобы предупредить о своем визите: голос у нее был отрывистый и спокойный. Около десяти часов вечера я появилась на улице, показавшейся мне столь трагичной минувшей зимой, и была сбита с толку ее располагающим видом; окна были открыты навстречу теплому вечеру, люди перекликались от дома к дому, маленькая девочка прыгала через веревочку. Под вывеской «МЕБЛИРОВАННЫЕ КОМНАТЫ» я нажала на кнопку, и дверь открылась нормально.
Чересчур нормально. К чему весь этот бред, эти гримасы, если все пришло в норму, если рассудок и рутина восторжествовали? К чему мои пылкие угрызения совести, если в один прекрасный день я должна проснуться ко всему безучастной? Я почти желала увидеть на пороге квартиры Поль враждебной, растерянной.
Но меня встретила улыбающаяся располневшая женщина в элегантном черном платье; она ответила на мой поцелуй без восторга и без сухости; комната была в безупречном порядке, зеркала заменили, и впервые за многие годы окна были широко распахнуты.