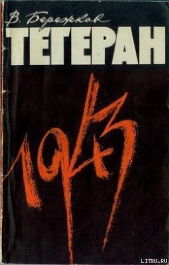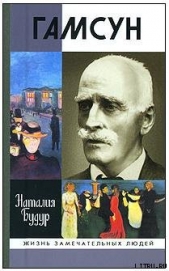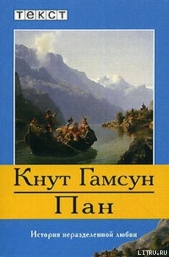"Люди, годы, жизнь", книга VI

"Люди, годы, жизнь", книга VI читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
10
Стоит мне вспомнить поездку в Америку, как я начинаю думать о судьбе Михаила Романовича Галактионова. В «Красной звезде» почти каждый вечер я встречал этого скромного, старомодно учтивого человека; мы здоровались, иногда обменивались несколькими словами, и, конечно, я не знал, что он за человек. Во время нашей поездки в Америку я порой подолгу с ним беседовал, кое-что узнал о нем и все же долго не понимал главного. Я часто упрекаю себя за невнимательность к людям, иногда мне кажется, что это не мой порок, а нравы века: мы удивительно мало знаем соседей, сослуживцев, даже приятелей, говорим о событиях короткого дня или спорим почти отвлеченно, а о том, что нас действительно волнует, молчим - старательно прячем свое и столь же старательно боимся случайно напасть на припрятанное чужое.
Американские журналисты, увидев впервые Галактионова, называли его «старым солдатом» - обманывали седые волосы, усталые глаза под очками в темной оправе, звезда на погонах. До нашей поездки я тоже думал, что Михаил Романович старше меня, а ему, когда мы были в Америке, не было и пятидесяти. Генеральская форма придавала ему некоторую сухость, казалось, что он весь накрахмален - и щеки, и слова, и мысли. А это было неправдой. О чем только мы не беседовали, оставаясь вдвоем, когда он еще мог спокойно разговаривать,- о мастерстве Чехова и о страшной судьбе наших солдат, попавших в плен, о старых постановках в Киевском театре Соловцова и об опасности механизации человека. Когда-то Галактионов учился на филологическом факультете, потом стал прапорщиком, как тогда пренебрежительно говорили, «прапором» или «фендриком». Хотя Галактионов в 1918 году пошел добровольцем в Красную Армию и почти всю свою жизнь прослужил в ней, при разговоре я чувствовал старую интеллигентскую закваску.
В начале нашей поездки я не только ничего не знал о душевном состоянии Михаила Романовича, я и не понимал его поступков. Меня удивляло, как болезненно он реагирует на бесцеремонные вопросы журналистов, на издевательскую шутку одного из «колумнистов», на любую мелочь, которой Симонов или я даже не замечали. Потом я начал кое-что понимать, а узнал все слишком поздно.
В первый месяц нашей американской жизни я как-то зашел в номер Галактионова. Он сидел сгорбившись у стола, мне показалось, что он нездоров. Он ответил: «Все в порядке»,- и поглядел на меня глазами затравленного зверя. Я сказал, что нам нужно ехать на обед Юнайтед Пресс. Он встал, причесал волосы, даже улыбнулся и вдруг тихо выговорил: «Каждый день встречаться с иностранцами… Это пытка!…»
Он честно выполнял порученную ему работу: выступал на собраниях, казался приветливым, общительным. Хотя «холодная война» усиливалась, журналисты вели себя куда почтительнее с генералом, чем с писателями. Однако Михаил Романович нервничал. Однажды крупный военный комментатор на приеме сказал ему: «Я слышал, что у вас готовится история войны. Мы теперь заняты тем же, стараемся разобраться в наших неудачах на Тихом океане, в Африке, в Италии. Скажите, ваши военные историки могут проанализировать неудачные операции, например, Керченскую?» Галактионов ответил, что в первый год войны у немцев было преобладание в технике. Тогда американец, усмехаясь, сказал: «Разумеется, поскольку Красной Армией командовал генералиссимус Сталин, стратегические ошибки были исключены». В другой раз журналист задал Галактионову вопрос о наших потерях: «Вы сказали - семь миллионов, входят ли в эту цифру военнопленные, погибшие в нацистских лагерях?» Генерал взволновался и попросил меня ответить.
В Нью-Йорке я и Симонов весь день бродили по городу, а Михаил Романович не выходил из своего номера. Когда не было официальных обедов, он и ел у себя в комнате. Сотрудник торгпредства приносил ему из библиотеки книги. Было жарко, генерал раздевался, садился в кресло и читал Чехова, Тургенева, Лескова. Как-то я застал его за чтением Чехова. «Удивительный писатель,- сказал он,- кажется, десятый раз перечитываю и восхищаюсь. Он просвечивал насквозь человека. Вчера после того, как мы вернулись с проклятого ужина, я читал «Палату № 6». Чуть ли не наизусть знаю, но, когда дохожу до сцены, как Никита выдаст доктору шутовской халат, не могу дальше читать… Бывают модные писатели. Когда-то я зачитывался Леонидом Андреевым. А здесь принесли мне его рассказы, не могу читать - смешно, устарело. А вот до вашего прихода я читал «Человека в футляре»… Меня точность поражает - ни одного слова не прибавишь и не убавишь. Вот вы послушайте: «Постное есть вредно, а скоромное нельзя…» Или еще вот это место: «Видеть и слышать, как лгут и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться…» В дверь постучали, Михаил Романович поспешно захлопнул книгу.
На моей совести грех,- сам того не подозревая, я способствовал развитию болезни Михаила Романовича. Начиналось нестерпимо знойное нью-йоркское лето, а он ходил в военной форме и страдал от жары. Притом он привлекал к себе внимание: стоило ему выйти на улицу - как на него все глазели. Я уговорил его купить летний костюм. Он ожил, сказал, что вышел под вечер погулять, и никто на него не смотрел, даже рассмеялся: «Наверно, я похож на обыкновенного пожилого бизнесмена…» А на следующий день я нашел его в ужасном состоянии, перед ним лежала газета, и он еле вымолвил: «Можете прочитать. Вот к чему привели ваши советы!…» Нужно сказать, что «колумнисты» усиленно нами занимались: один написал, сколько долларов потратил Симонов на ужин с актрисой, другой рассказывал, что я купил ящик дорогих гаванских сигар. И вот один из «колумнистов» написал: «Зацвели сады, запели птички, и грозный генерал Галактионов сменил свое оперение. Мы видали, как вчера он выпорхнул в светло-сером костюме и направился… Мы не скажем куда». Михаил Романович был подавлен: «Вы понимаете, что это значит? А я только дошел до угла и вернулся. Да что тут говорить!…» Я все еще не понимал и наивно сказал, что жена Михаила Романовича - умная женщина, если даже газета дойдет до нее, она рассмеется. Он крикнул: «При чем тут жена?… Я вам говорю: что там скажут?» Он показал на потолок. Я пытался его успокоить: мало ли писали вздора обо мне, Симонове, у нас знают стиль бульварных газет. Но он не успокоился: «Вам все сойдет - вы писатели. А я человек военный…» И вдруг не удержался: «Я слишком много пережил…» Сказал и быстро спохватился, заговорил о другом. Потом он мне рассказывал о своей молодости, о боях возле Самары, у Кронштадта, о встречах с Фрунзе, но никогда не возвращался к мрачным воспоминаниям.