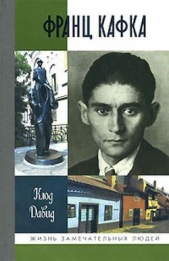Избранное
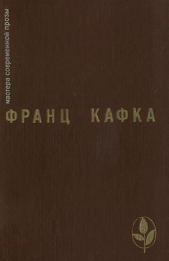
Избранное читать книгу онлайн
Франц Кафка — один из крупнейших немецкоязычных писателей, классик литературы XX века, оказавший огромное влияние на писателей разных стран.
В новое издание (впервые сборник Ф. Кафки был издан в СССР в 1965 году издательством «Прогресс») наряду с публиковавшимися романом «Процесс», новеллами и притчами разных лет вошли роман «Замок», отрывки из дневников (1910–1923), «Письмо отцу» и т.д.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
11 февраля. Бегло прочитал «Гёте» Дильтея, огромное впечатление, я полностью захвачен, почему нельзя зажечься и погибнуть в этом огне? Или последовать велению, даже если не слышишь его? Сидеть посреди своей пустой комнаты в кресле, уставившись в пол. Взывать «Вперед!» в горном ущелье и со всех горных тропинок слышать отклики одиноких людей и видеть, как они появляются там.
14 февраля. Если бы я покончил с собой, никто нисколько не был бы виноват, будь даже непосредственной причиной отношение ко мне Ф. Я уже однажды в полусне представил себе сцену, которая произошла бы, если бы я в предвидении конца с прощальным письмом в кармане пришел к ней на квартиру и, получив отказ как жених, положил письмо на стол, подошел к балкону, вырвался от всех, кинувшихся ко мне и пытающихся удержать меня, и, отнимая руки — одну за другой — от балконных перил, перемахнул через них. В письме было бы, однако, написано, что, хотя я и бросился вниз из-за Ф., ничего существенно не изменилось бы для меня, если б мое предложение и приняли. Я обречен, я не вижу другого исхода, Ф. случайно оказалась тем, на чем подтвердилось это предначертание, я не могу жить без нее и должен броситься вниз, но и с нею — и Ф. чувствует это — я не смог бы жить. Так почему не сделать этого нынешней ночью? Я заранее представляю себе болтливых гостей, которые придут сегодня вечером к родителям, они будут разглагольствовать о жизни и о том, какие условия необходимо создать для нее, — но я прикован к общепринятому, живу, целиком увязнув в жизни, я не сделаю этого, я совершенно холоден, мне грустно оттого, что ворот рубашки давит мне шею, я проклят, задыхаюсь в тумане.
23 февраля. Еду. Письмо от Музиля [82]. Оно меня радует и печалит, ведь у меня ничего нет.
9 марта. Я здесь не забуду Ф. и потому не женюсь.
Это совершенно определенно?
Да, я могу сказать это, мне уже почти тридцать один год, знаю Ф. около двух лет и потому должен уже здраво отдавать себе во всем отчет. Кроме того, мой здешний образ жизни таков, что мне не забыть Ф., даже если бы она и не имела такого значения для меня. Однообразие, размеренность, удобство и несамостоятельность моего образа жизни цепко держат меня и заставляют оставаться на том месте, где я оказался.
Кроме того, мною владеет более сильная, чем обычно, склонность к удобной и несамостоятельной жизни, все вредное находит подкрепление во мне самом. Наконец, я ведь становлюсь старше, перемены даются все труднее. И во всем этом я вижу большое несчастье для себя, которое обещает быть долгим и безысходным; мне предстоит тащиться сквозь годы, получая свое жалованье и становясь все более грустным и одиноким, пока хватит сил выдержать.
Но ты ведь хотел для себя такой жизни?
Жизнь чиновника была бы для меня подходящей, будь я женат. Она давала бы мне хорошую опору со всех точек зрения — по отношению к обществу, к жене, к литературной работе, не требуя слишком больших жертв и, с другой стороны, не превращая меня в раба удобств и несамостоятельности, ибо как человеку женатому мне нечего было бы опасаться этого. Но холостяком я такой жизнью жить до конца не могу.
Но ты ведь мог бы жениться?
Тогда я не мог жениться, все во мне протестовало против этого, как ни любил я Ф. Удерживала главным образом писательская работа, ибо я думал, что брак повредит ей. Возможно, я был прав; но холостяцкая жизнь при теперешних моих условиях уничтожила ее. Я целый год не писал, я и сейчас не могу писать, у меня в голове одна только мысль, и она пожирает меня. Все это я тогда не мог проверить. Впрочем, при моей несамостоятельности, которую по меньшей мере питает такой образ жизни, я ко всему подхожу нерешительно и ни с чем не справляюсь с ходу. Так было и здесь.
Почему ты отказываешься от надежды все же добиться Ф.?
Я уже шел на всякие унижения. Однажды в Тиргартене я сказал: «Скажи «да», даже если ты считаешь свое чувство ко мне недостаточным для брака, моей любви к тебе хватит, чтобы восполнить недостающее, она достаточно сильна, чтобы принять все на себя». Ф. казалась обеспокоенной особенностями моей натуры, страх перед которыми я вселил в нее во время нашей долгой переписки. «Я достаточно люблю тебя, чтобы избавиться от всего, что могло бы тебя беспокоить. Я стану другим человеком». Теперь, когда все должно было стать ясным, я могу признаться, что даже во время наших самых сердечных отношений у меня возникали подозрения и подтвержденные мелочами опасения, что Ф. меня не очень любит, не со всей силой, с какой она способна любить. Это поняла и Ф., правда, не без моей помощи. Боюсь даже, что после наших двух последних встреч Ф. испытывает ко мне некоторое отвращение, хотя внешне мы очень приветливы друг с другом, говорим друг другу «ты», ходим рука об руку. Последнее воспоминание о ней — неприязненная гримаса, которую она сделала, когда я в прихожей ее дома не удовольствовался поцелуем через перчатку, а расстегнул ее и поцеловал руку. Теперь же, несмотря на обещание аккуратно поддерживать дальнейшую переписку, она не ответила на два моих письма, а только в телеграммах обещала прислать письма, но и это обещание не выполнила, она даже не ответила моей матери. Безнадежность всего этого, пожалуй, несомненна.
Впрочем, никогда нельзя так говорить. С точки зрения Ф., разве твое прежнее поведение не казалось тоже безнадежным?
Но это было нечто иное, Я всегда, даже при как будто последнем прощании летом, открыто признавался в своей любви к ней; я никогда не молчал с такой жестокостью; для моего поведения были причины, их можно было не признавать, но обсудить их следовало. Единственная же причина Ф. — совершенно недостаточная любовь. Тем не менее верно, что я мог бы ждать. Но ждать с удвоенной безнадежностью я не в силах: во-первых, видя, что Ф. все больше удаляется от меня, а во-вторых, становясь все более неспособным как-то спасти себя. Это был бы самый большой риск, на который я мог бы отважиться, несмотря на то — или именно потому — что это больше всего отвечало бы всем самым дурным склонностям во мне. «Никогда нельзя знать, что случится» — не аргумент против невыносимости того или иного нынешнего состояния.
Что же ты хочешь предпринять?
Уехать из Праги. Против человеческих страданий, самых сильных из всех, которые я когда-либо испытывал, пустить в ход самое сильное средство, которым я располагаю.
Оставить службу?
Служба, как сказано выше, частично и порождает невыносимость. Надежность, расчет на всю жизнь, достаточное жалованье, неполное напряжение сил — это ведь всё вещи, которые мне, холостяку, ни к чему и которые превращаются в муки.
Что же ты хочешь предпринять?
Я мог бы сразу ответить на все вопросы такого рода, сказав: мне нечем рисковать, каждый день и каждый малейший успех — это подарок, все, что я сделаю, будет хорошо. Но я могу и точнее ответить: как австрийский юрист, кем я всерьез вовсе не являюсь, я не имею подходящих перспектив; самое лучшее, чего бы я мог достичь для себя в этом направлении, у меня уже есть, и все-таки я не могу этим воспользоваться. На тот, сам по себе совершенно невозможный случай, если бы я захотел извлечь какие-нибудь блага из своей юридической подготовки, речь могла бы идти только о двух городах: о Праге, из которой я должен уехать, и Вене, которую я ненавижу и где я непременно был бы несчастен, ибо поехал бы туда уже с глубоким убеждением в неотвратимости несчастья. Стало быть, нужно ехать за пределы Австрии, и, поскольку у меня нет таланта к языкам и я плохо справляюсь как с физической, так и с коммерческой работой, ехать — по крайней мере вначале — придется в Германию, в Берлин, где больше всего возможностей просуществовать.
Там я смогу наилучшим и непосредственным образом применить свои литературные способности также и в журналистике и найти более или менее достаточный для себя заработок. Буду ли я, сверх того, еще способен к творческой работе, об этом я сейчас не могу говорить хотя бы с малейшей уверенностью. Но одно я, кажется, знаю твердо: самостоятельное и свободное положение, которое я обрету в Берлине (будь оно в остальном даже и жалким), даст мне то единственное чувство счастья, на какое я еще способен сейчас.