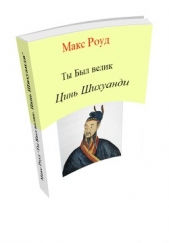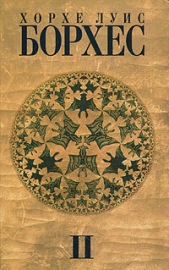Новые расследования

Новые расследования читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Позволю себе реплику в сторону. Имя Оскара Уайльда связано с городками английских равнин, а слава – с приговором и застенком. И все же (лучше иных это почувствовал Хескетт Пирсон) от всего созданного им остается ощущение счастья. Напротив, мужественное творчество Честертона, образец морального и физического здоровья, балансирует на самой границе кошмара. В нем нас подстерегают дьявольщина и ужас; призраки страха могут глянуть с любой, самой неожиданной страницы. Честертон – это взрослый, мечтающий вернуться в детство; Уайльд – взрослый, сохранивший, вопреки обиходным порокам и несчастьям, первозданную невинность.
Подобно Честертону, Лэнгу или Босуэллу, Уайльд из тех счастливцев, которые вполне обойдутся без одобрения критики и даже благосклонности читателей, поскольку их припасенное для нас доброжелательство несокрушимо и неизменно.
О Честертоне
Because He does not take away
The terror from the tree.
Ибо не избавляет Он и дерево от страха...
Эдгар Аллан По писал новеллы ужасов с элементами фантастики или чистой bizarrerie 92. Эдгар Аллан По изобрел детективную новеллу. Это так же бесспорно, как тот факт, что два эти жанра он не смешивал. Он не поручал аристократу Огюсту Дюпену установить давнее преступление Человека Толпы или объяснить, почему статуя в черно-красной комнате убила замаскированного принца Просперо. Честертон, напротив, со страстью и успехом изощрялся в подобных tours de force 93. Каждая из новелл саги о патере Брауне сперва предлагает нам тайну, затем дает ей объяснение демонического или магического свойства, а в конце заменяет их объяснениями вполне посюсторонними. Достоинство этих кратких историй не только в мастерстве; мне кажется, я в них вижу зашифрованную историю жизни самого Честертона, символ или отражение Честертона. Повторение вышеприведенной схемы в течение ряда лет и в ряде книг («The Man Who Knew Too Much», «The Poet and the Lunatics», «The Paradoxes of Mr. Pond») 94, на мой взгляд, подтверждает, что дело тут в существе формы, а не в риторическом приеме. Ниже я пытаюсь дать толкование этой формы.
Вначале необходимо припомнить некоторые слишком известные факты. Честертон был католиком; Честертон верил в «Средневековье прерафаэлитов» («Of London, small and white, and clean» 95). Честертон, подобно Уитмену, грешил мнением, что самый факт существования настолько чудесен, что никакие злоключения не могут избавить нас от несколько комической благодарности. Подобные взгляды, возможно, верны, однако они вызывают лишь весьма умеренный интерес; предполагать, будто ими исчерпывается Честертон, значит забыть, что кредо человека – это конечный этап ряда умственных и эмоциональных процессов и что человек есть весь этот ряд. В нашей стране католики Честертона превозносят, вольнодумцы отвергают. Как всякого писателя, исповедующего некое кредо, Честертона по нему судят, по нему хулят или хвалят. Его случай схож с судьбой Киплинга, о котором всегда судят по отношению к Британской империи.
По и Бодлер, подобно злобному Уризену Блейка, вознамерились создать мир страха; и естественно, что их творчество изобилует всевозможными ужасами. Честертон, как мне кажется, не потерпел бы обвинения в том, что он мастер кошмаров, monstrorum artifex 96 (Плиний, XXVIII, 2), тем не менее он неотвратимо предается чудовищным предположениям. Он спрашивает, может ли человек иметь три глаза, а птица – три крыла; вопреки пантеистам, он говорит об обнаруженном им в раю мертвеце, о том, что духи в ангельских хорах все как есть на одно лицо 97; он рассказывает о тюремной камере из зеркал, о лабиринте без центра, о человеке, пожираемом металлическими автоматами, о дереве, пожирающем птиц и вместо листьев покрытом перьями; он выдумывает («Man Who was Thursday» 98, VI), будто на восточных окраинах земли существует дерево, которое и больше и меньше, чем дерево, а на западном краю стоит нечто загадочное, некая башня, сама архитектура которой злокозненна. Близкое он определяет с помощью далекого и даже жестокого; говоря о своих глазах, называет их, как Иезекииль (1, 22), «изумительный кристалл», а описывая ночь, усугубляет древний ужас перед нею (Откр 4:6) и называет ее «чудовище, исполненное глаз». Не менее живописен рассказ «How I Found the Superman» 99. Честертон беседует с родителями Сверхчеловека; на вопрос о том, красив ли их сын, не выходящий из темной комнаты, они ему напоминают, что Сверхчеловек создает свой собственный канон красоты, по которому и следует судить о нем («В этом смысле он прекраснее Аполлона. С нашей, разумеется, более низменной точки зрения...»); затем они соглашаются, что пожать ему руку нелегко («Вы понимаете, совсем другое строение...»); затем оказывается, что они не могут сказать, волосы у него или перья. Сквозняк его убивает, и несколько мужчин выносят гроб, судя по форме, не с человеком. Честертон рассказывает эту тератологическую фантазию в шутливом тоне.
Подобные примеры – их легко было бы умножить – показывают, что Честертон стремился не быть Эдгаром Алланом По или Францем Кафкой, однако что-то в замесе его «я» влекло его к жути – что-то загадочное, неосознанное и нутряное. Не зря же посвятил он свои первые произведения защите двух великих готических мастеров – Браунинга и Диккенса; не зря повторял, что лучшая книга, созданная в Германии, – это сказки братьев Гримм. Он бранил Ибсена и защищал (пожалуй, безнадежно) Ростана, однако тролли и Пуговичник в «Пер Гюнте» созданы из материи его снов – the stuff his dreams were made of. Этот разлад, это ненадежное подавление склонности к демоническому определяют натуру Честертона. Символ его внутренней борьбы я вижу в приключениях патера Брауна, каждое из которых стремится объяснить с помощью только разума некий необъяснимый факт 100. Вот почему в первом абзаце моей заметки я и сказал, что эти новеллы – зашифрованная история Честертона, символы и отражения Честертона. Это и все, разве что «разум», которому Честертон подчинил свое воображение, был, собственно, не разум, а католическая вера или же совокупность вымыслов еврейской религии, подчиненных Платону и Аристотелю.
Мне вспоминаются две контрастирующие притчи. Первая – из первого тома сочинений Кафки. Это история человека, добивающегося, чтобы его пропустили к Закону. Страж у первых врат говорит ему, что за ними есть много других 101 и там, от покоя к покою, врата охраняют стражи один могущественнее другого. Человек усаживается и ждет. Проходят дни, годы, и человек умирает. В агонии он спрашивает: «Возможно ли, что за все годы, пока я ждал, ни один человек не пожелал войти, кроме меня?» Страж отвечает: «Никто не пожелал войти, потому что эти врата были предназначены только для тебя. Теперь я их закрою». (Кафка комментирует эту притчу, еще больше ее усложняя, в девятой главе «Процесса».) Вторая притча – в «Pilgrim's Progress» 102 Беньяна. Народ с вожделением глядит на замок, охраняемый множеством воинов; у входа стоит страж с книгой, чтобы записать в ней имя того, кто будет достоин войти. Один храбрец приближается к стражу и говорит: «Запиши мое имя, господин». Затем выхватывает меч и бросается на воинов; наносит и сам получает кровавые раны, пока ему не удается в схватке проложить себе путь и войти в замок.