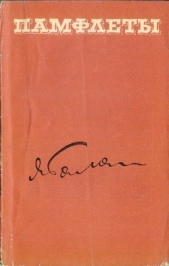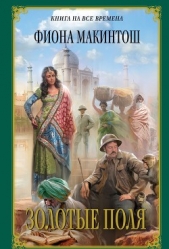Гроздья гнева
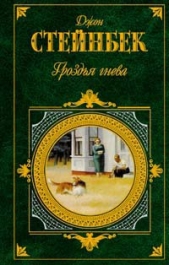
Гроздья гнева читать книгу онлайн
Написанная на основе непосредственных личных впечатлений книга Стейнбека явилась откликом на резкое обострение социально-экономической ситуации в США в конце 30-х годов. Летом 1937 года многие центральные штаты к западу от среднего течения Миссисипи были поражены сильной засухой, сопровождавшейся выветриванием почвы, «пыльными бурями». Тысячи разорившихся фермеров и арендаторов покидали родные места. Так возникла огромная волна переселенцев, мигрирующих сельскохозяйственных рабочих, искавших пристанища и заработка в долинах «золотого штата» Калифорнии. Запечатлев события и социальный смысл этого «переселения народов», роман «Гроздья гнева» в кратчайшее время приобрел общенациональную славу как символ антикапиталистического протеста, которым была проникнута общественная атмосфера Соединенных Штатов в незабываемую пору «красного десятилетия».
Силе и четкости выражения прогрессивных идей в лучшем романе Стейнбека во многом способствует его оригинальная композиция. Эпическому повествованию об испытаниях, выпадающих на долю переселенцев, соответствуют меньшие по объему главы-интерлюдии, предоставляющие трибуну для открытого выражения мыслей и чувств автору.
«Гроздья гнева» — боевое, разоблачительное произведение, занимающее выдающееся место в прогрессивной мировой литературе, проникнутой духом освободительных идей. Правдиво воспроизводя обстановку конца 30-х годов, американский писатель сумел уловить характерные для различных слоев населения оттенки всеобщего недовольства и разочарованности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет, — сказал Том. — Не обидно. Что было, то было.
— Ты не виноват, это мы все знали, — сказал Мьюли. — Старик Тернбулл грозился отомстить тебе после тюрьмы. Он, говорит, убил моего сына, и я ему этого не спущу. Но потом соседи успокоили его, образумили.
— Мы были пьяные, — тихо сказал Джоуд. — Подвыпили на вечеринке. Сам не знаю, с чего все началось. Почувствовал вдруг, что меня пырнули ножом, и протрезвел. Вижу, Херб опять замахивается. А тут у стены, у школы, стояла лопата. Я схватил ее и ударил Херба по голове. У меня с ним никаких счетов не было. Он был хороший. Еще мальчишкой увивался около моей сестры Розы. Мне этот Херб даже нравился.
— Старику все так и говорили. Наконец кое-как утихомирился. Мне кто-то рассказывал, будто у него родство с Хэтфилдом со стороны матери, вот он и пыжится изо всех сил. Не знаю, верно это или нет. Они всей семьей уехали в Калифорнию полгода назад.
Джоуд снял с проволоки оставшиеся куски, роздал их сотрапезникам и опять уселся у костра. Теперь он ел уже не так быстро, разжевывал мясо как следует и вытирал рукавом жир с губ. А его темные полузакрытые глаза задумчиво смотрели на потухающий костер.
— Все уезжают на Запад, — сказал он. — А я подписку дал, надо выполнять обязательство. Мне в другой штат нельзя.
— Подписку? — спросил Мьюли. — Да, я про них слыхал. А как с ними выпускают?
— Я вышел раньше срока. На три года раньше. Ставят кое-какие условия, которые нужно выполнять, а не выполнишь, опять засадят. Являться надо время от времени.
— Как там с вами обращались? У моей жены двоюродный брат побывал в Мак-Алестере, так ему там спуску не давали.
— Обращаются неплохо, — сказал Джоуд. — Не хуже, чем в других тюрьмах. Но будешь буянить, тогда спуску не дадут, это верно. Нет, в тюрьме жить можно, если только надзиратель не придирается. А тогда дело дрянь. Я ничего жил. Держался смирно. Писать выучился, да еще как красиво. И птичек умею рисовать. Мой старик увидит, как я птичку с одного росчерка рисую, пожалуй, разозлится, а то и вовсе взбесится. Не любит он таких фокусов. Когда обыкновенно пишут, и то ему не по душе. Боится, что ли? Наверно, привык: раз перо и чернила — значит, что-нибудь взыскивают.
— И не били тебя?
— Нет, я смирный был. Конечно, когда тянешь такую лямку изо дня в день все четыре года, это кого хочешь до одури доведет. Если натворил такого, что вспоминать стыдно, — ну, сиди и кайся. А я — вот честное слово! — если бы Херб Тернбулл полез на меня с ножом, я бы опять пристукнул его лопатой.
— На твоем месте каждый бы так сделал, — сказал Мьюли.
Проповедник не отводил глаз от костра, и в сгущавшейся темноте его высокий лоб казался совсем белым. Огненные блики играли на его жилистой шее. Он сидел, обняв колени, и похрустывал костяшками пальцев.
Джоуд бросил в огонь объедки, облизал пальцы и вытер их о брюки. Он поднялся, взял с крыльца бутылку с водой, сделал маленький глоток и, прежде чем сесть, передал бутылку проповеднику. Потом снова заговорил:
— Что меня больше всего мучило? То, что во всем этом нет никакого смысла. Когда корову убьет молнией или поля зальет разливом — тут особого смысла искать не станешь. Случилась беда, ну и случилась. Но когда тебя сажают под замок на четыре года, в этом должен быть какой-то резон. Человеку положено до всего добираться своим умом. Так вот, посадили меня в тюрьму, держали там четыре года, кормили. Как будто это должно или исправить меня, чтобы я не пошел во второй раз на преступление, или припугнуть так, чтобы впредь неповадно было… — Он помолчал. — Но если Херб или кто другой опять на меня полезет, я то же самое сделаю. Особенно если в пьяном виде. Вот над этой бессмыслицей и ломаешь себе голову.
Мьюли заметил:
— Судья говорил, ты потому так легко отделался, что Херб тоже был виноват.
Джоуд продолжал:
— В Мак-Алестере сидел один — бессрочник. Учился все время. Работал секретарем у надзирателя, переписку вел и все такое прочее. Умница, в законах смыслил. Я с ним однажды разговорился обо всем этом, — человек он был образованный, много книг прочел. Так он мне сказал: книги тут не помогут. Я, говорит, о тюрьмах все перечитал, и о прежних и о нынешних, и теперь еще меньше понимаю, чем раньше. Тут, говорит, такая неразбериха, что сам черт ногу сломит, и ничего с этим не могут поделать; а чтобы ввести какие-нибудь изменения, так на это ни у кого ума не хватает. Не вздумай, говорит, за книги засесть: во-первых, запутаешься еще больше, а во-вторых, перестанешь уважать правительство.
— Я и так его не уважаю, — сказал Мьюли. — Мы знаем только одно правительство — это те самые, кто на нас налегает и печется о своей «минимальной прибыли». Но я вот чего не мог понять: как это Уилл Фили согласился сесть на трактор да еще хочет здесь и дальше работать на той самой земле, которую пахал его отец. Покоя мне это не давало. Если б из других мест кого прислали, дело другое, а ведь Уилл здешний. Наконец решил: пойду спрошу его самого. Он прямо взбеленился. У меня двое ребят, говорит. У меня жена и теща. Им есть надо. Себя от злости не помнит. Я в первую голову о них думаю, говорит. А другие пусть сами о себе позаботятся. Ему, верно, стыдно было, вот он и обозлился.
Джим Кэйси смотрел на потухающий костер, и глаза у него были широко открыты, мускулы на шее вздулись. Вдруг он крикнул:
— Теперь знаю! Если есть во мне хоть капля разума, значит, я все понял. Прозрел! — Он вскочил и стал расхаживать взад и вперед, крутя головой. — Была у меня палатка. Народу по вечерам сходилось человек пятьсот. Давно это было, вы меня в те годы еще не знали. — Он остановился и посмотрел на них. — Помните? Я никогда не собирал деньги после проповеди, где бы ни проповедовал — в сарае, в поле.
— Никогда, что правда, то правда, — сказал Мьюли. — Наши так к этому привыкли, что их зло брало, когда другие проповедники ходили по рядам со шляпой. Что правда, то правда.
— Если предлагали покормить, я не отказывался, — продолжал Кэйси. — Брюки брал, когда от своих собственных оставались одни лохмотья, или пару старых башмаков, когда подошвы начисто сносишь. А в палатке было по другому. Иной раз собирал долларов десять, а то и двадцать. Только радости это мне не приносило. Тогда я бросил собирать, и как будто стало полегче. Теперь я все знаю. А вот словами это выразить, пожалуй, не смогу. Пожалуй, и пробовать не стану… Но, кажется мне, теперь проповедник найдет свое место. Может, я опять смогу проповедовать. Люди мыкаются по дорогам, одинокие, без земли, без крова. А если нет крова, надо дать им что-то взамен. Может быть… — Он стоял, глядя на костер. Мускулы у него на шее вздулись еще больше, отблески огня играли в глазах, зажигая там красные искорки. Кэйси стоял, глядя на костер, и взгляд у него был настороженный, словно он прислушивался к чему-то, а руки, всегда такие беспокойные, деятельные, сейчас медленно тянулись к карманам. Летучие мыши кружили в свете затухающего костра, и далеко в полях слышалось хлипкое курлыканье ночной птицы.
Том неторопливо полез в карман, вынул оттуда кисет и стал свертывать папиросу, не отводя глаз от углей. Он никак не откликнулся на слова проповедника, словно считая, что это личное дело Кэйси и вмешиваться в него не следует. Он сказал:
— По ночам лежишь у себя на койке и думаешь: вот вернусь домой — как это все будет? Дед и бабка, может, умрут к тому времени, может, еще ребятишки народятся. Может, нрав у отца будет не такой крутой. И мать отдых себе даст, работа по дому перейдет к Розе. Я знал, что перемены должны быть… Ну что ж, давайте устраиваться на ночевку, а завтра чуть свет пойдем к дяде Джону. По крайней мере, я пойду. А ты, Кэйси, как решишь?
Проповедник все еще стоял, глядя на угли. Он медленно проговорил:
— Пойду с тобой. А когда твои тронутся в путь, поеду с ними. Кто на дороге, с теми я и буду.
— Милости просим, — сказал Джоуд. — Мать всегда тебя почитала. Говорила: такому проповеднику можно довериться. Роза тогда была еще совсем маленькая. — Он повернулся к Мьюли: — А ты как? Пойдешь с нами? — Мьюли смотрел на дорогу, по которой они пришли. — Пойдешь, Мьюли? — повторил Джоуд.