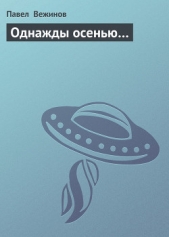Блеск и нищета куртизанок

Блеск и нищета куртизанок читать книгу онлайн
Над романом «Блеск и нищета куртизанок» Бальзак работал более десяти лет, с 1836 по 1847 год. Роман занимает значительное место в многотомном цикле произведений, объединенных писателем под общим названием «Человеческая комедия». Этим романом Бальзак заканчивает своеобразную трилогию («Отец Горио», «Утраченные иллюзии», «Блеск и нищета куртизанок»). Через все три произведения проходят основные персонажи «Человеческой комедии». В романе завершается история героя «Утраченных иллюзий» поэта Люсьена Шардона (де Рюбампре), растратившего талант и погубившего себя в погоне за богатством и соблазнами светской жизни. Здесь читатель вновь встречает преуспевающего карьериста Растиньяка и беглого каторжника Жака Коллена, знакомых по роману «Отец Горио».
Действие романа происходит во время Реставрации и охватывает 1824—1830 годы. Писатель создает широкое социальное обобщение жизни Франции накануне Июльской революции 1830 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таковы были обстоятельства, когда в одну прекрасную августовскую ночь барон Нусинген возвращался в Париж из имения одного поселившегося во Франции иностранного банкира, у которого он обедал. Имение это находилось в восьми лье от Парижа, в глуши провинции Бри. Кучер барона хвалился, что отвезет и привезет своего господина на его собственных лошадях, поэтому, как только наступила ночь, он позволил себе ехать шагом. Состояние животных, слуг и господина при въезде в Венсенский лес было таково: кучер, угостившийся на славу в буфетной знаменитого самодержца биржи, пьяный в лоск, спал, однако ж не выпуская из рук вожжей и тем вводя в заблуждение прохожих. Лакей, сидя на запятках кареты, храпел, посвистывая, как волчок, вывезенный из Германии – страны резных деревянных фигурок, крепких рейнских вин и волчков. Барон пытался размышлять, но уже на мосту Гурне сладостная послеобеденная дремота смежила ему глаза. По опущенным вожжам лошади догадались о состоянии кучера, услышали неумолчный бас лакея, доносившийся с вахты в тылу, и, почувствовав себя хозяевами, воспользовались четвертью часа свободы, чтобы насладиться прогулкой по собственной прихоти. Как смышленые рабы, они предоставляли ворам случай ограбить одного из крупнейших капиталистов Франции, ловчайшего из ловкачей, которым в конце концов присвоили выразительное прозвище: Хищники. Итак, оказавшись хозяевами положения и подстрекаемые любопытством, свойственным, как известно, домашним животным, они остановились на скрещении дорог, перед встречными лошадьми, сказав им, конечно, на лошадином языке: «Чьи вы? Что поделываете? Как поживаете?» Когда коляска остановилась, дремавший барон проснулся. Сначала ему показалось, что он все еще в парке своего собрата; вслед за тем его поразило небесное видение, и в такую минуту, когда он не был защищен обычным оружием – расчетом. Луна светила так ярко, что свободно можно было читать даже вечернюю газету. В тишине леса, в призрачном лунном сиянии, барон увидел женщину; она уже садилась в наемную карету, как вдруг ее внимание было привлечено редкой картиной: коляской, погруженной в сон! Все существо барона Нусингена словно озарило внутренним светом, когда он увидел этого ангела. Молодая женщина, заметив, что ею любуются, испуганно опустила вуаль. Гайдук издал хриплый крик и был, по-видимому, прекрасно понят кучером, потому что карета быстро покатилась. Все чувства старого банкира взволновались; кровь отлила от ног, ударила в голову, от головы хлынула к сердцу, горло сжалось. Несчастный уже предвидел несварение желудка, чего он боялся пуще смерти, но все же поднялся с сиденья.
– Пускай гальоп! Болван! Тебе только би спать! – кричал он. – Сто франк! Поймать мне этот карет!
При этих словах сто франков кучер проснулся, лакей зашевелился, расслышав, верно, их сквозь сон. Барон повторил приказание, кучер пустил лошадей вскачь и у Тронной заставы нагнал карету, несколько похожую на ту, в которой Нусинген видел божественную незнакомку; но в ней сидели, развалившись, старший приказчик из какого-то роскошного магазина и порядочная женщина с улицы Вивьен. Барон был сражен неудачей.
– Ви жирни дурак! Шорш (читай Жорж) нашель би этот женшин, – выговаривал он слуге, покуда таможенные служащие осматривали карету.
– Эх, господин барон, видно, не гайдук, а сам дьявол сидел на запятках и подсунул мне эту карету вместо той.
– Тьяволь не существуй, – сказал барон.
Барону Нусингену было, по его словам, шестьдесят лет; женщины стали для него безразличны, и тем более собственная жена. Он хвалился, что никогда не знал любви, доводящей до безрассудства. Он считал подлинным счастьем, что покончил с увлечениями, и без стеснения утверждал, что самая ангелоподобная из женщин не стоит того, во что она обходится, даже если отдается бескорыстно. Он слыл столь пресыщенным, что удовольствие быть обманутым покупал не дороже, чем за два-три тысячи франков в месяц. Из ложи в Опере его холодные глаза бесстрастно изучали кордебалет. Ни один взгляд из этой опасной стаи юных старух и старых дев, избранниц парижских утех, не был украдкой брошен на этого капиталиста. Любовь животную, любовь показную и эгоистическую, любовь пристойную и тщеславную, любовь изощренную, любовь сдержанную и супружескую, любовь взбалмошную – барон все покупал, все изведал, кроме истинной любви. И эта любовь обрушилась на него, как орел на свою жертву, – так обрушилась она и на Генца, наперсника его светлости князя Меттерниха. Известны все глупости, которые натворил этот старый дипломат ради Фанни Эльслер: репетиции актрисы волновали его несравненно больше, нежели вопросы европейской политики. Женщина, поразившая денежный мешок, именуемый Нусингеном, представилась ему единственной в своем роде. Едва ли возлюбленная Тициана, Монна Лиза Леонардо да Винчи, Форнарина Рафаэля были так прекрасны, как божественная Эстер, в которой самый опытный взгляд самого наблюдательного парижанина не мог бы подметить ни малейшей черты куртизанки. Недаром барона совершенно ошеломило величие и благородство облика, столь свойственное Эстер, – тем более Эстер любимой, окруженной изысканной роскошью, обожанием. Счастливая любовь – это святое причастие для женщины: она становится горда, как императрица. Барон восемь ночей сряду выезжал в Венсенский лес, затем в Булонский, затем в леса Виль д'Авре, затем в Медонский лес, наконец, во все окрестности Парижа и нигде не встретил Эстер. Одухотворенное еврейское лицо, как он говорил, пиплейски, неотступно стояло перед его глазами. К концу второй недели он потерял аппетит. Дельфина Нусинген и его дочь Августа, которую баронесса начинала вывозить в свет, не сразу заметили перемену, происшедшую в бароне. Мать и дочь видели барона лишь утром за завтраком и вечером во время обеда, если все обедали дома, что случалось только в приемные дни баронессы. Но к концу второго месяца барон, весь во власти чувства, сходного с тоской по родине, пожираемой лихорадочным нетерпением и удивленный бессилием миллионов, настолько исхудал, настолько казался больным, что Дельфина втайне надеялась стать вдовой. Она лицемерно жалела мужа и заставила дочь сидеть дома. Она засыпала мужа вопросами; он отвечал, как отвечают англичане, страдающие сплином, то есть почти не отвечал. По воскресеньям Дельфина Нусинген давала званый обед. Она избрала этот день для приемов, заметив, что в высшем свете в воскресенье никто не посещает театра, и этот вечер у всех обычно свободен. От наплыва буржуа и мещан воскресный день в Париже стал настолько суетлив, насколько он чопорен в Лондоне. И вот баронесса пригласила к обеду знаменитого Деплена, чтобы посоветоваться с ним против желания больного, ибо Нусинген говорил, что чувствует себя превосходно. Келлер, Растиньяк, де Марсе, дю Тийе, все друзья дома дали понять баронессе, что такой человек, как Нусинген, не должен умереть внезапно: его огромные дела обязывали к особой осторожности, и надо было точно знать, как поступить. Эти господа были приглашены к обеду, так же как граф де Гондревиль, тесть Франсуа Келлера, кавалер д'Эспар, де Люпо, доктор Бьяншон, любимый ученик Деплена, Боденор с супругой, граф и графиня де Монкорне, Блонде, мадемуазель де Туш и Конти, наконец, Люсьен де Рюбампре, к которому Растиньяк в продолжение пяти лет выказывал живейшую дружбу, но согласно приказу, выражаясь казенным языком.
– От него мы легко не отделаемся, – сказал Блонде Растиньяку, увидев входящего в гостиную Люсьена, прекрасного, как никогда, и восхитительно одетого.
– Предпочитаю быть ему другом, ибо он опасен, – сказал Растиньяк.
– Он? – сказал де Марсе. – Опасными, по-моему, могут быть только люди, положение которых ясно, а его положение скорее не атаковано, чем не атакуемо! На какие средства он живет? Откуда вся эта роскошь? У него, я уверен, тысяч шестьдесят долгу.
– Он нашел богатого покровителя, испанского священника, чрезвычайно к нему расположенного, – отвечал Растиньяк.
– Он женится на старшей дочери герцогини де Гранлье, – сказала мадемуазель де Туш.