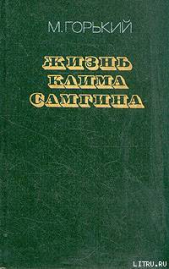Жизнь Клима Самгина. "Прощальный" роман писателя в одном томе
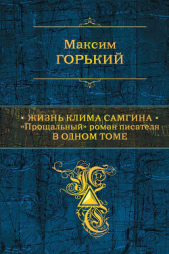
Жизнь Клима Самгина. "Прощальный" роман писателя в одном томе читать книгу онлайн
«...Пишу нечто «прощальное», некий роман-хронику сорока лет русской жизни», - писал М.Горький, работая над «Жизнью Клима Самгина», которую поначалу назвал «Историей пустой жизни». Этот роман открыл читателю нового Горького с иной писательской манерой; удивил масштабом охвата политических и социальных событий, мастерским бытописанием, тонким психологизмом. Роман о людях, которые, по слову автора, «выдумали себе жизнь», «выдумали себя», и роман о России, о страшной трагедии, случившейся со страной: «Все наши «ходынки» хочу изобразить, все гекатомбы, принесенные нами в жертву истории за годы с конца 80-х и до 18-го».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты лжешь!
Сын ответил тоже пронзительным криком:
— Нет. Он — негодяй…
Потом раздался спокойный, как всегда, голос Игоря:
— Позвольте, я расскажу.
Окно наверху закрыли. Лидия встала и пошла по саду, нарочно задевая ветви кустарника так, чтоб капли дождя падали ей на голову и лицо.
— Что сделал Борис? — спросил ее Клим. Он уже не впервые спрашивал ее об этом, но Лидия и на этот раз не ответила ему, а только взглянула, как на чужого. У него явилось желание спрыгнуть в сад и натрепать ей уши. Теперь, когда возвратился Игорь, она снова перестала замечать Клима.
После этой сцены и Варавка и мать начали ухаживать за Борисом так, как будто он только что перенес опасную болезнь или совершил какой-то героический и таинственный подвиг. Это раздражало Клима, интриговало Дронова и создало в доме неприятное настроение какой-то скрытности.
— Чорт, — бормотал Дронов, почесывая пальцем нос, — гривенник дал бы, чтобы узнать, чего он набедокурил? Ух, не люблю этого парнишку…
Когда Клим, приласкавшись к матери, спросил ее, что случилось с Борисом, она ответила:
— Его очень обидели.
— Чем?
— Это тебе не нужно знать.
Клим взглянул на строгое лицо ее и безнадежно замолчал, ощущая, что его давняя неприязнь к Борису становится острей.
Однажды ему удалось подсмотреть, как Борис, стоя в углу, за сараем, безмолвно плакал, закрыв лицо руками, плакал так, что его шатало из стороны в сторону, а плечи его дрожали, точно у слезоточивой Вари Сомовой, которая жила безмолвно и как тень своей бойкой сестры. Клим хотел подойти к Варавке, но не решился, да и приятно было видеть, что Борис плачет, полезно узнать, что роль обиженного не так уж завидна, как это казалось.
Вдруг дом опустел; Варавка отправил детей, Туробоева, Сомовых под надзором Тани Куликовой кататься на пароходе по Волге. Климу, конечно, тоже предложили ехать, но он солидно спросил:
— А как же я буду готовиться к переэкзаменовке? Этим вопросом он хотел только напомнить о своем серьезном отношении к школе, но мать и Варавка почему-то поспешили согласиться, что ехать ему нельзя. Варавка даже, взяв его за подбородок, хвалебно сказал:
— Молодец! Но все-таки ты не очень смущайся тем, что науки вязнут в зубах у тебя, — все талантливые люди учились плохо.
Дети уехали, а Клим почти всю ночь проплакал от обиды. С месяц он прожил сам с собой, как перед зеркалом. Дронов с утра исчезал из дома на улицу, где он властно командовал группой ребятишек, ходил с ними купаться, водил их в лес за грибами, посылал в набеги на сады и огороды. Какие-то крикливые люди приходили жаловаться на него няньке, но она уже совершенно оглохла и не торопясь умирала в маленькой, полутемной комнатке за кухней. Слушая жалобщиков, она перекатывала голову по засаленной подушке и бормотала, благожелательно обещая:
— Ну, ну, господь все видит, господь всех накажет. Жалобщики требовали барыню; строгая, прямая, она выходила на крыльцо и, молча послушав робкие, путаные речи, тоже обещала:
— Хорошо, я его накажу.
Но — не наказывала. И только один раз Клим слышал, как она крикнула в окно, на двор:
— Иван, если ты будешь воровать огурцы, тебя выгонят из гимназии.
Она и Варавка становились все менее видимы Климу, казалось, что они и друг с другом играют в прятки; несколько раз в день Клим слышал вопросы, обращенные к нему или к Малаше, горничной;
— Ты не знаешь, где мать, — в саду?
— Тимофей Степанович пришел?
Встречаясь, они улыбались друг другу, и улыбка матери была незнакома Климу, даже неприятна, хотя глаза ее, потемнев, стали еще красивее. А у Варавки как-то жадно и уродливо вываливалась из бороды его тяжелая, мясистая губа. Ново и неприятно было и то, что мать начала душиться слишком обильно и такими крепкими духами, что, когда Клим, уходя спать, целовал ей руку, духи эти щипали ноздри его, почти вызывая слезы, точно злой запах хрена. Иногда, вечерами, если не было музыки, Варавка ходил под руку с матерью по столовой или гостиной и урчал в бороду:
— О-о-о! О-о-о!
Мать усмехалась.
А когда играли, Варавка садился на свое место в кресло за роялем, закуривал сигару и узенькими щелочками прикрытых глаз рассматривал сквозь дым Веру Петровну. Сидел неподвижно, казалось, что он дремлет, дымился и молчал.
— Хорошо? — спрашивала его Вера Петровна, улыбаясь.
— Да, — отвечал он тихо, точно боясь разбудить кого-то. — Да.
А однажды сказал:
— Это — самое прекрасное, потому что это всегда — любовь.
— Но — нет же! — возразил Ржига. — Не всегда. И, высоко подняв руку со смычком, он говорил о музыке до поры, пока адвокат Маков не прервал его:
— А моя жена, покойница, не любила музыку. Вздохнув, он добавил, негромко, ворчливо:
— Совершенно не способен понять женщину, которая не любит музыку, тогда как даже курицы, перепелки… гм. Мать спросила его:
— Вы давно овдовели?
— Девять лет. Я был женат семнадцать месяцев. Да.
Потом снова начал играть на скрипке.
Вслушиваясь в беседы взрослых о мужьях, женах, о семейной жизни, Клим подмечал в тоне этих бесед что-то неясное, иногда виноватое, часто — насмешливое, как будто говорилось о печальных ошибках, о том, чего не следовало делать. И, глядя на мать, он спрашивал себя: будет ли и она говорить так же?
«Не будет», — уверенно отвечал он и улыбался.
В ласковую минуту Клим спросил ее:
— Это у тебя роман с ним?
— О, господи, тебе рано думать о таких вещах! — взволнованно и сердито сказала мать. Потом вытерла алые губы свои платком и прибавила мягче:
— Ты видишь: он — один, и я тоже. Нам скучно. Тебе тоже скучно?
— Нет, — сказал Клим.
Но ему было скучно до отупения. Мать так мало обращала внимания на него, что Клим перед завтраком, обедом, чаем тоже стал прятаться, как прятались она и Варавка. Он испытывал маленькое удовольствие, слыша, что горничная, бегая по двору, по саду, зовет его.
— Куда ты исчезаешь? — удивленно, а иногда с тревогой спрашивала мать. Клим отвечал:
— Я задумался.
— О чем?
— Обо всем. Об уроках тоже.
Уроки Томилина становились все более скучны, менее понятны, а сам учитель как-то неестественно разросся в ширину и осел к земле. Он переоделся в белую рубаху с вышитым воротом, на его голых, медного цвета ногах блестели туфли зеленого сафьяна. Когда Клим, не понимая чего-нибудь, заявлял об этом ему, Томилин, не сердясь, но с явным удивлением, останавливался среди комнаты и говорил почти всегда одно и то же:
— Ты пойми прежде всего вот что: основная цель всякой науки — твердо установить ряд простейших, удобопонятных и утешительных истин. Вот.
И, барабаня пальцами по подбородку, разглядывая потолок белками глаз, он продолжал однотонно:
— Одной из таких истин служит Дарвинова теория борьбы за жизнь, — помнишь, я тебе и Дронову рассказывал о Дарвине? Теория эта устанавливает неизбежность зла и вражды на земле. Это, брат, самая удачная попытка человека совершенно оправдать себя. Да… Помнишь жену доктора Сомова? Она ненавидела Дарвина до безумия. Допустимо, что именно ненависть, возвышенная до безумия, и создает всеобъемлющую истину…
Стоя, он говорил наиболее непонятно, многословно, вызывая досаду. Теперь Клим слушал учителя не очень внимательно, у него была своя забота: он хотел встретить детей так, чтоб они сразу увидели — он уже не такой, каким они оставили его. Он долго думал — что нужно сделать для этого, и решил, что он всего сильнее поразит их, если начнет носить очки. Сказав матери, что у него устают глаза и что в гимназии ему посоветовали купить консервы, он на другой же день обременил свой острый нос тяжестью двух стекол дымчатого цвета. Сквозь эти стекла все на земле казалось осыпанным легким слоем сероватой пыли, и даже воздух, не теряя прозрачности своей, стал сереньким. Зеркало убедило Клима, что очки сделали тонкое лицо его и внушительным и еще более умным.
Но как только дети возвратились, Борис, пожав руку Клима и не выпуская ее из своих крепких пальцев, насмешливо сказал: