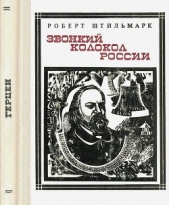Былое и думы, том 1

Былое и думы, том 1 читать книгу онлайн
Почти шестнадцать лет Герцен работал над своим главным произведением — автобиографическим романом "Былое и думы". Сам автор называл эту книгу исповедью, "пo поводу которой собрались… там-сям остановленные мысли из дум". Но в действительности, Герцен, продемонстрировав художественное дарование, глубину мысли, тонкий психологический анализ, создал настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы, общественную, литературную и политическую жизнь России середины XIX века.
Вступительная статья "Роман о русском революционере и мыслителе" Я. Эльсберга.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Преданность и кротость, с которой он говорил, его несчастный вид, космы желто-седых волос по обеим сторонам голого черепа глубоко трогали меня.
— Слышал я, государь мой, — говорил он однажды, — что братец ваш еще кавалерию изволил получить. Стар, батюшка, становлюсь, скоро богу душу отдам, а ведь не сподобил меня господь видеть братца в кавалерии, хоть бы раз перед кончиной лицезреть их в ленте и во всех регалиях!
Я смотрел на старика: его лицо было так детски откровенно, сгорбленная фигура его, болезненно перекошенное лицо, потухшие глаза, слабый голос — все внушало доверие; он не лгал, он не льстил, ему действительно хотелось видеть прежде смерти в "кавалерии и регалиях" человека, который лет пятнадцать не мог ему простить каких-то бревен. Что это: святой или безумный? Да не одни ли безумные и достигают святости?
Новое поколение не имеет этого идолопоклонства, и если бывают случаи, что люди не хотят на волю, то это просто от лени и из материального расчета. Это развратнее, спору нет, но ближе к концу; они наверно, если что-нибудь и хотят видеть на шее господ, то не владимирскую ленту.
Скажу здесь кстати о положении нашей прислуги вообще.
Ни Сенатор, ни отец мой не теснили особенно дворовых, то есть не теснили их физически. Сенатор был вспыльчив, нетерпелив и именно потому часто груб и несправедлив; но он так мало имел с ними соприкосновения и так мало ими занимался, что они почти не знали друг друга. Отец мой докучал им капризами, не пропускал ни взгляда, ни слова, ни движения и беспрестанно учил; для русского человека это часто хуже побоев и брани.
Телесные наказания были почти неизвестны в нашем доме, и два-три случая, в которые Сенатор и мой отец прибегали к гнусному средству "частного дома", были до того необыкновенны, что об них вся дворня говорила целые месяцы; сверх того, они были вызываемы значительными проступками.
Чаще отдавали дворовых в солдаты; наказание это приводило в ужас всех молодых людей; без роду, без племени, они все же лучше хотели остаться крепостными, нежели двадцать лет тянуть лямку. На меня сильно действовали эти страшные сцены… являлись два полицейские солдата по зову помещика, они воровски, невзначай, врасплох брали назначенного человека; староста обыкновенно тут объявлял, что барин с вечера приказал представить его в присутствие, и человек сквозь слезы куражился, женщины плакали, все давали подарки, и я отдавал все, что мог, то есть какой-нибудь двугривенный, шейный платок.
Помню я еще, как какому-то старосте за то, что он истратил собранный оброк, отец мой велел обрить бороду. Я ничего не понимал в этом наказании, но меня поразил вид старика лет шестидесяти: он плакал" навзрыд, кланялся в землю и просил положить на него, сверх оброка, сто целковых штрафу, но помиловать от бесчестья.
Когда Сенатор жил с нами, общая прислуга состояла из тридцати мужчин и почти стольких же женщин; замужние, впрочем, не несли никакой службы, они занимались своим хозяйством; на службе были пять-шесть горничных и прачки, не ходившие наверх. К этому следует прибавить мальчишек и девчонок, которых приучали к службе, то есть к праздности, лени, лганью и к употреблению сивухи.
Для характеристики тогдашней жизни в России я не думаю, чтоб было излишним сказать несколько слов о содержании дворовых. Сначала" им давались пять рублей ассигнациями в месяц на харчи, потом шесть. Женщинам — рублем меньше, детям лет с десяти — половина. Люди составляли между собой артели и на недостаток не жаловались, что свидетельствует о чрезвычайной дешевизне съестных припасов. Наибольшее жалованье состояло из ста рублей ассигнациями в год, другие получали половину, некоторые тридцать рублей в год. Мальчики лет до восемнадцати не получали жалованья. Сверх оклада, людям давались платья, шинели, рубашки, простыни, одеяла, полотенцы, матрацы из парусины; мальчикам, не получавшим жалованья, отпускались деньги на нравственную и физическую чистоту, то есть на баню и говенье. Взяв все в расчет, слуга обходился рублей в триста ассигнациями; если к этому прибавить дивиденд на лекарства, лекаря и на съестные припасы, случайно привозимые из деревни и которые не знали, куда деть, то мы и тогда не перейдем трехсот пятидесяти рублей. Это составляет четвертую часть того, что слуга стоит в Париже или в Лондоне.
Плантаторы обыкновенно вводят в счет страховую премию рабства, то есть содержание жены, детей помещиком и скудный кусок хлеба где-нибудь в деревне под старость лет. Конечно, это надобно взять в расчет; но страховая премия сильно понижается — премией страха телесных наказаний, невозможностью перемены состояния и гораздо худшего содержания.
Я довольно нагляделся, как страшное сознание крепостного состояния убивает, отравляет существование дворовых, как оно гнетет, одуряет их душу. Мужики, особенно оброчные, меньше чувствуют личную неволю, они как-то умеют не верить своему полному рабству. Но тут, сидя на грязном залавке передней с утра до ночи или стоя с тарелкой за столом, — нет места сомнению.
Разумеется, есть люди, которые живут в передней, как рыба в воде, — люди, которых душа никогда не просыпалась, которые взошли во вкус и с своего рода художеством исполняют свою должность.
В этом отношении было у нас лицо чрезвычайно интересное — наш старый лакей Бакай. Человек атлетического сложения и высокого роста, с крупными и важными чертами лица, с видом величайшего глубокомыслия, он дожил до преклонных лет, воображая, что положение лакея одно из самых значительных.
Почтенный старец этот постоянно был сердит или выпивши, или выпивши и сердит вместе. Должность свою он исполнял с какой-то высшей точки зрения и придавал ей торжественную важность; он умел с особенным шумом и треском отбросить ступеньки кареты и хлопал дверцами сильнее ружейного выстрела. Сумрачно и навытяжке стоял на запятках и всякий раз, когда его подтряхивало на рытвине, он густым и недовольным голосом кричал кучеру: "Легче!", несмотря на то, что рытвина уже была на пять шагов сзади.
Главное занятие его, сверх езды за каретой, — занятие, добровольно возложенное им на себя, состояло в обучении мальчишек аристократическим манерам передней. Когда он был трезв, дело еще шло кой-как с рук, но когда у него в голове шумело, он становился педантом и тираном до невероятной степени. Я иногда вступался за моих приятелей, но мой авторитет мало действовал на римский характер Бакая; он отворял мне дверь в залу и говорил:
— Вам здесь не место, извольте идти, а не то я и на руках снесу.
Он не пропускал ни одного движения, ни одного слова, чтоб не разбранить мальчишек; к словам нередко прибавлял он и тумак или "ковырял масло", то есть щелкал как-то хитро и искусно, как пружиной, большим пальцем и мизинцем по голове.
Когда он разгонял, наконец, мальчишек и оставался один, его преследования обращались на единственного друга его, Макбета, — большую ньюфаундлендскую собаку, которую он кормил, любил, чесал и холил. Посидев без компании минуты две-три, он сходил на двор и приглашал Макбета с собой на залавок; тут он заводил с ним разговор.
— Что же ты, дурак, сидишь на дворе, на морозе, когда есть топленая комната? Экая скотина! Что вытаращил глаза — ну? Ничего не отвечаешь?
За этим следовала обыкновенно пощечина. Макбет иногда огрызался на своего благодетеля; тогда Бакай его упрекал, но без ласки и уступок.
— Впрямь, корми собаку — все собака останется; зубы скалит и не подумает, на кого… Блохи бы заели без меня!
И, обиженный неблагодарностью своего друга, он нюхал с гневом табак и бросал Макбету в нос, что оставалось на пальцах, после чего тот чихал, ужасно неловко лапой снимал с глаз табак, попавший в нос, и, с полным негодованием оставляя залавок, царапал дверь; Бакай ему отворял ее со словами "мерзавец!" и ему ногой толчок. Тут обыкновенно возращались мальчики, и он принимался ковырять масло,
Прежде Макбета у нас была легавая собака Берта; она сильно занемогла, Бакай ее взял на свой матрац и две-три недели ухаживал за ней. Утром рано выхожу я раз в переднюю. Бакай хотел мне что-то сказать, но голос у него переменился, и крупная слеза скатилась по щеке — собака умерла; вот еще факт для изучения человеческого сердца. Я вовсе не думаю, чтоб он и мальчишек ненавидел; это был суровый нрав, подкрепляемый сивухою и бессознательно втянувшийся в поэзию передней.