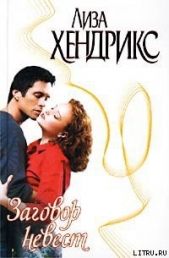Новеллы

Новеллы читать книгу онлайн
Герман Брох (1886–1951) — крупнейший мастер австрийской литературы XX века, поэт, романист, новеллист. Его рассказы отражают тревоги и надежды художника-гуманиста, предчувствующего угрозу фашизма, глубоко верившего в разум и нравственное достоинство человека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Разрешите представиться, господин обер-лейтенант. Лейтенант Ярецки, из восьмого гессенского егерского батальона, группа армии кронпринца. Ампутация левой руки вследствие отравления газами под Армаитьером.
Вендлинг с недоумением взглянул на него.
— Весьма приятно, — вынужден был ответить он. — Обер-лейтенант Вендлинг.
— Дипломированный инженер Отто Ярецки, — счел необходимым добавить Ярецки, вытянувшись при этом по стойке «смирно» перед Ханной: он давал ей понять, что представление относится также и к ней.
Ханна Вендлинг уже привыкла сегодня собирать дань поклонения. Она ответила участливо:
— Но это ужасно, сударь, — то, что случилось с вашей рукой.
— Да, сударыня, ужасно, но справедливо.
— Ну, ну, камрад, — вмешался Вендлинг. — О какой справедливости здесь может идти речь?
Ярецки поднял палец:
— Отнюдь не об юридической, камрад… у нас теперь новая справедливость. Зачем человеку столько конечностей, ежели он один… вы, конечно, согласитесь с этим, сударыня.
— Всего хорошего, — сказал Вендлинг.
— Жаль, ужасно жаль, — отозвался Ярецки, — но, естественно, каждый обречен па свое одиночество… всего хорошего, господа! — и он снова уставился в пустое пространство стола.
— Странный человек, — говорит Ханна Вендлинг.
— Пьяный дурак, — откликается ее супруг.
На дорожке показывается вольноопределяющийся Пельцер с двумя стаканами грогу и вытягивается во фрунт.
Неверно было бы утверждать, что Ханна жаждала окончания отпуска своего мужа. Она этого даже страшилась. Ночь за ночью она отдавалась этому человеку. Да и дневные ее часы — прежде лишь неясные проблески сознания, в глубине которого таилось смутное ожидание вечера в постели, — теперь были устремлены к этой цели гораздо однозначнее, с пугающей однозначностью, которую едва ли уже можно было назвать влюбленностью, так безрадостно, так жестоко все сводилось к знанию мужского и женского естества, — наслаждение без улыбки, анатомическое наслаждение, чересчур божественное пли чересчур непристойное для этой адвокатской супружеской четы.
Конечно, вся ее жизнь была сплошной сумеречной грезой. Но греза эта протекала, так сказать, в разных слоях, она никогда не переходила полностью в бессознательное состояние, скорее это было похоже на чрезмерно отчетливый сои с мучительным осознанием несвободы волн, и чем более животным или растительным представлялось ей существование, охватившее ее теперь своими путами, тем бдительнее были некоторые слои ее сознания, расположенные над ним. Просто она не способна была говорить об этом вслух, не потому, что ей было стыдно, но, скорее, по той причине, что слово никогда не достигнет степени обнаженности, которая проистекает из действий, — как ночь из дня, — слова тоже поделены по крайней мере на два слоя: ночные речи, бормотание, лепет, обусловленные происходящим, и дневные, независимые от происходящего, описывающие вокруг него широкие круги, применяя метод блокировки, умолчания, который всегда рационален, пока не отречется сам от себя в выкриках и у слезах отчаяния, — И потому часто их речи были всего лишь поисками в потемках, нащупыванием причин болезни, которая на них напала. «Когда кончится война, — почти ежедневно повторял Генрих, — все снова будет по-другому… война сделала нас в чем-то примитивнее…» — «Я не могу этого понять», — обычно отвечала Ханна, или: «Это просто уму непостижимо». Таким образом, по сути, она отклоняла попытки Генриха обсудить это с ней на равных: он был виновен и обязан был защищаться, а не судить о происходящем как сторонний наблюдатель. Сидя перед зеркалом и вынимая золотистые черепаховые гребни из своих светлых волос, она сказала:
— Тот странный человек на городском балу говорил об одиночестве…
— Он был пьян, — резко возразил Генрих.
Ханна расчесывала волосы и думала о том, как напрягаются ее груди, когда она поднимает руки. Она ощущала это напряжение под шелком рубашки, из-под которой груди проступали, как два маленьких остроконечных шатра. Наблюдать это она могла в зеркале, по обеим сторонам которого, справа и слева, горели две одинаковые лампочки в виде свечей, под розовыми, с нежным рисунком, абажурами. Потом она услышала, как Генрих сказал:
— Нас как будто просеивают сквозь сито… истирают в порошок.
Она ответила:
— В такое время не следует рожать детей.
При этом она подумала о сыне, который был так похож на Генриха, и вдруг ей представилось немыслимым, что ее белое тело было сотворено единственно для того, чтобы вобрать в себя частицу этого мужчины, исполнить свое женское предназначение. Невольно она зажмурила глаза.
Он продолжал:
— Возможно, сейчас подрастает новое поколение преступников… не исключено, не сегодня так завтра у нас начнется то же, что в России… будем надеяться… этому противостоит лишь чудовищная стабильность еще господствующей идеологии…
Оба ощутили, как эти слова канули в пустоту. Это прозвучало так же, как если бы обвиняемый вдруг сказал во время судебного заседания: «Прекрасная сегодня погода, господа судьи», — и Ханна некоторое время молчала, чувствуя, что ее душит волна ненависти, той ненависти, от которой ночи се становились еще бесстыднее, еще чувственнее и греховнее.
Затем она сказала:
— Надо переждать… конечно, причина — война… нет, не то… скорее, мне кажется, что война тут вторичное..
— Как это вторичное? — переспросил Генрих.
От напряжения Ханна наморщила лоб.
— И мы сами — вторичное, и война — вторичное… первопричина — это нечто невидимое, что заключено в нас…
Она вспомнила, как жаждала когда-то окончания свадебного путешествия, чтобы поскорее — так думала она — вновь приняться за устройство их дома. Теперешняя ситуация чем-то напоминала тогдашнюю: ведь свадебное путешествие — тот же отпуск. И то, что тогда выявилось, было, вероятно, не чем иным, как предчувствием одиночества: возможно-в глубине ее сознания вдруг забрезжил ответ, — одиночество и есть первопричина, и есть корень болезни! И поскольку все началось сразу же после свадьбы, — Ханна прикинула в уме: точно, уже в Швейцарии и началось, — и поскольку все так сходилось одно к одному, в ней усилилось подозрение, что Генрих совершил тогда некую непоправимую ошибку, что вообще в отношении ее была допущена чудовищная несправедливость, которую уже нельзя исправить, но можно лишь усугубить и которая странным образом способствовала тому, чтобы началась война… Ханна наложила крем на лицо, тщательно втирая его кончиками пальцев, и теперь придирчиво и внимательно рассматривала себя в зеркале. Лицо юной девушки из прошлого исчезло, стало лицом женщины, сквозь которое лишь слабо просвечивало то прежнее, ее девичье лицо. Она не понимала, почему все это так взаимосвязано, но заключила молчаливый ход мыслей словами:
— Война — не причина, она — только вторичное, второе.
И внезапно она поняла: второе лицо — это и есть воина, это лицо ночи. Это разложение мира, ночное его лицо, разлетающееся в пепел, такой холодный и невесомый; и одновременно это разложение, уничтожение ее собственного лица; это и то разложение, которое она ощущала, когда Генрих целовал ее в подмышки.
Он сказал:
— Естественно, что война — это лишь следствие нашей неправильной политики, — вероятно, он мог бы додуматься, что и политика здесь не главное, поскольку существует другая, более глубокая причина. Но он удовлетворился своим объяснением, и Ханна, подушив себя очень экономно французскими духами, которые теперь невозможно было купить, втянула носом их аромат и больше уже не слушала: она наклонила голову, чтобы он смог поцеловать ее в затылок, чуть пониже серебристых корней волос, что он и сделал.
— Еще, — сказала она.
Прощание с Генрихом прошло удивительно безболезненно. Поскольку вообще можно говорить о различии физических и духовных понятий, это было событие чисто физического свойства. Когда Ханна вернулась с вокзала, она показалась себе чем-то вроде опустевшего дома, в котором задернули шторы. Вот и все. Впрочем, каким-то образом она знала с полной уверенностью, что Генрих вернется с войны живым и невредимым; эта уверенность, не дававшая ей возможности представить Генриха в роли мученика, не только счастливо избавила ее от боязливой сентиментальности на вокзале, которой Ханна так страшилась, но в ней, в этой уверенности, было скрыто и желание, намного превосходившее ее нелюбовь к прощаниям: чтобы Генрих никогда не возвращался, пусть себе существует вдали от нее — в своем абстрактном и безопасном существовании! И когда она сказала сыну: «Папочка скоро вернется, и мы снова будем все вместе», — оба они хорошо-понимали, что она так вовсе не думает.