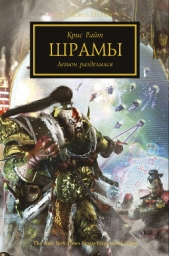Обретенное время

Обретенное время читать книгу онлайн
Последний роман цикла «В поисках утраченного времени», который по праву считается не только художественным произведением, но и эстетическим трактатом, утверждающим идею творческой целостности человека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У дворецкого и в мыслях не было, что новости отнюдь не хороши, что сообщение: «Мы отбились и нанесли тяжелый урон врагу» не означало, что мы приближаемся к Берлину, и эти битвы он праздновал, как новые победы. Меня, тем не менее, пугала скорость, с которой театр этих побед продвигался к Парижу, и тем сильнее меня удивило, что дворецкий, узнав из сводки, что бой был недалеко от Ланса, не выразил обеспокоенности, прочитав в газете уже на следующий день, что в итоге мы, к нашей выгоде, отступили к Жюи-ле-Виконт, в хорошо укрепленный район. Дворецкий хорошо знал, где находится Жюи-ле-Виконт — это было не так уж далеко от Комбре. Но читатели газет, подобно влюбленным, слепы. Обстоятельства их не интересуют. Они тешат свой слух сладкими редакторскими речами, словно словами любовницы. Терпят поражение и рады, потому что побежденными себя не считают, они считают себя победителями.
Впрочем, в Париже я пробыл недолго и довольно скоро вернулся в клинику. Хотя лечение, в принципе, заключалось в изоляции, мне все-таки передали, хотя и с некоторой задержкой, письмо от Жильберты и письмо от Робера. Жильберта писала мне (это было приблизительно в сентябре 1914-го года), что, сколь бы ни хотелось ей остаться в Париже, чтобы быстрее получать письма от Робера, постоянные налеты «таубов" [51] на Париж нагнали на нее такого страху, особенно за маленькую дочку, что на одном из последних поездов она сбежала из Парижа в Комбре, однако и тот не дошел до пункта назначения, и до Тансонвиля, «пережив ужасный день», она добиралась на какой-то крестьянской бричке. «И вот представьте, что ожидало вашу старую подругу, — писала мне Жильберта. — Я сбежала из Парижа, чтобы укрыться от немецкой авиации, мне казалось, что в Тансонвиле я буду в безопасности. Но не прошло и двух дней, и вдруг — вообразите себе такое: после сражения с нашими войсками около Ла-Фер немцы захватили весь район, к воротам Тансонвиля явился немецкий полк вместе со штабом, я была вынуждена разместить их, и никакой возможности уехать попросту не осталось — никаких поездов, вообще ничего». Действительно ли немецкие штабные отличались благовоспитанностью, или письмо Жильберты отражало заражение духом Германтов, по истокам своим баварцев, приходившихся родней древнейшей немецкой аристократии, но она твердила о прекрасном поведении офицеров и даже солдат, которые лишь попросили у нее «позволения сорвать пару незабудок, растущих у пруда», — это благое воспитание она противопоставляла разнузданности французских дезертиров, которые прошли через ее имение незадолго до прибытия немецких генералов и на своем пути разрушили все. Во всяком случае, если письмо Жильберты в какой-то мере отражало дух Германтов, — другие его детали говорили о еврейском интернационализме, что, однако, как увидим ниже, было не так, — письмо, полученное мной примерно месяцем позже, от Робера, по духу принадлежало скорее Сен-Лу, нежели Германтам; в нем отразилась, помимо прочего, приобретенная им либеральная культура, и в целом оно было очень близко мне по духу. К несчастью, он ничего не говорил о стратегии, как во времена наших донсьерских бесед, и не сообщал, подтвердила ли война тогдашние его теории, или опровергла. Он только писал, что на протяжении 1914-го года «сменилось множество войн», и уроки каждой из них сказались на ведении последующих. Так, в частности, теория «прорыва» была дополнена положениями, согласно которым перед наступлением надлежит полностью разворотить артиллерией занятую противником местность. Но затем пришли к выводу, что напротив, по земле, изрытой снарядами, после такого разрушения невозможно продвигаться ни инфантерии, ни артиллерии. «И война, — писал он мне, — не ушла от законов старика Гегеля. Она пребывает в вечном становлении». Это было не совсем то, что я хотел бы знать. Но еще больше меня сердило, что он не имел права называть имена генералов. Впрочем, и из скупых газетных сообщений я мог понять, что это войной руководят отнюдь не те генералы, которые вызывали у меня интерес в Донсьере — мне тогда хотелось узнать, кто из них принесет наибольшую пользу в бою. Жеслен де Бургонь, Галифе, Негрие были мертвы. По ушел с военной службы почти в начале войны. О Жоффре, Фоше, Кастельно, Петене [52] мы никогда не говорили. «Дорогой друг, — писал мне Робер, — я согласен, что выражения вроде „они не пройдут“ или „мы их сделаем“ неприятны, и у меня они давно уже навязли в зубах, как и „пуалю“ [53] и прочее; вероятно, романа с такими словами не напишешь — они не лучше, чем грамматические ошибки и дурной вкус, здесь есть что-то противоречивое и дурное, и аффектация, и вульгарная претензия; мы вольны презирать их в той же мере что и людей, которые находят более остроумным говорить «коко» вместо «кокаин». Но если бы ты их видел, особенно простолюдинов, рабочих, лавочников, которые даже не подозревают, какие они герои… Они, наверное, так и закончили бы жизнь у себя дома, ни о каком героизме не помышляя, — если бы ты видел, как они бегут под пулями, чтобы спасти товарища, выносят раненного командира, как они, умирая от тяжких ранений, улыбаются перед смертью, узнав от врача, что траншею у немцев отбили. Уверяю тебя, друг мой, здесь созидается замечательный образ французской нации, здесь можно лучше представить далекие исторические эпохи, которые на лекциях казались нам немного необычными. Эта эпопея так прекрасна, что ты, как и я, решил бы, что дело не в словах. Роден и Майоль [54] могли бы создать шедевр из страшной и неузнаваемой материи. Когда я прикоснулся к этому величию, я перестал вкладывать в «пуалю» тот же смысл, что и поначалу, я ничего забавного здесь не вижу, никакой отсылки, — как, например, в слове «шуаны». И мне кажется, что словом «пуалю» уже могут воспользоваться большие поэты, как словами «потоп», «Христос» или «варвары», исполненными величия задолго до того, как их употребили Гюго, Виньи и другие. Я сказал, что здесь лучше всех — люди из народа, рабочие; однако здесь все герои. Бедняга Вогубер-младший, сын посла, получил семь ранений, и только потом погиб; если он возвращался из операции невредимым, то он, казалось, оправдывался, что это не по его вине. Он был прекрасным человеком. Мы с ним крепко сдружились. Несчастным родителям позволили приехать на похороны с тем условием, что они не наденут траура и, из-за бомбежки, ограничат прощание пятью минутами. Мать, — с этой коровой ты, кажется, знаком, — возможно и горевала, но на ней это не сильно отразилось. Но бедный отец был в ужасном горе. Я уже стал совсем бесчувствен, я привык уже видеть, как голову только что со мной беседовавшего товарища внезапно разрезает мина, а иногда и отрывает от туловища, однако я тоже не смог сдержаться, увидев отчаяние бедного Вогубера — он был совсем разбит. Генерал напрасно ему повторял, что его сын погиб смертью героя за Францию, — это только удвоило его рыдания, и он не мог оторваться от тела сына. Потом, — и это к тому, что надо привыкнуть к «не пройдут», — все эти люди, как мой бедный камердинер, как Вогубер, остановили немцев. Ты, наверное, думаешь, что мы не сильно-то продвигаемся, но не следует спешить с выводами — в душе армия уже чувствует свою победу. Так умирающий чувствует, что все кончено. Теперь мы точно знаем, что победим, и нам это нужно, чтобы продиктовать справедливый мир; я не хочу сказать, что справедливый только для нас — справедливый для французов, справедливый для немцев».
Разумеется, благодаря «нашествию» ум Робера за свои рамки не вышел. Подобно недалеким героям и, на побывке — банальным поэтам, которые, говоря о войне, не дорастают до уровня событий, ничего в них не означивших, и остаются на уровне своей банальной эстетики, правилам которой они следовали и прежде, и твердят, как и десятком лет ранее, об «окровавленной заре», о «полете трепетном победы» и т. п., — так и Сен-Лу, что был и поумней, и артистичней, остался верен себе, и со вкусом описывал пейзажи, увиденные им во время остановки на опушке болотистого леса, словно наблюдал их за охотой на уток. Чтобы я мог лучше представить контраст света и сумрака, в котором «рассвет был исполнен очарования», он припоминал наши любимые картины, не страшась сослаться на страницу Ромена Роллана и даже Ницше [55] — с вольностью фронтовика, который, в отличие от тех, кто оставался в тылу, был лишен страха перед немецким именем, равно им же присущего кокетства при цитации врага, как, например, проявленного полковником дю Пати де Кламом, когда он выступал свидетелем по делу Золя и мимоходом продекламировал при Пьере Кийаре [56], яром дрейфусарском поэте, которого, впрочем, не то чтоб очень знал, стихи из символистской драмы последнего — Безрукой девушки. Если Сен-Лу писал о какой-нибудь мелодии Шумана, то он упоминал лишь немецкое ее название, и говорил без обиняков, что на заре, когда на этой опушке он услышал птичий щебет, он был опьянен, словно бы пела птица из «возвышенного Siegfried», что он надеется послушать оперу после войны.