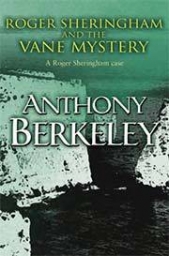Тайна корабля
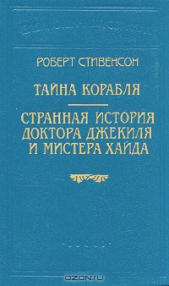
Тайна корабля читать книгу онлайн
В романе «Тайна корабля» описывается полная приключений жизнь Додда Лоудона, которого судьба привела на борт потерпевшего крушение брига «Летучее облако», якобы нагруженного контрабандным опиумом. Лоудон не находит на судне ни опиума, ни сокровищ, но зато раскрывает жуткую тайну гибели корабля и его экипажа.
В повести «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» рассказывается об удивительном открытии доктора Джекиля, которое позволяет герою вести двойную жизнь: преступника и негодяя в обличье Эдуарда Хайда и высоконравственного ученого-в собственном обличье.
Другой перевод названия: «Потерпевшие кораблекрушение».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В этой теории было что-то заманчивое, увлекавшее большинство из нас. Правда, два француза, посмеявшись над нами, ушли пить пиво, да Ромнэй, человек небогатый, не мог принять участие в поездке на свои средства и не желавший одолживать, тоже ушел, чтобы не навязываться. Оставшиеся в компании уселись в экипаж; кони вздрогнули, восприняв вдохновение возницы, к карманным интересам которого было обращено надлежащее воззвание; поезд был захвачен за минуту до отхода. Не прошло и полутора часов, как мы уже вдыхали нежнейший воздух леса; мы шли через холм от Фонтенбло к Барбизону, и вожди нашей компании прошли это расстояние в пятьдесят одну с половиной минуту, — в своем роде исторический рекорд той местности. Едва ли вы изумитесь, узнав, что я несколько поотстал от них. Философски настроенный британец, Мейнер, был моим спутником; великолепие солнечного заката, длинные тени, чудный воздух, вообще все наслаждение, доставляемое лесом, побуждало меня шагать молча, и мое молчание сообщалось моему спутнику. Помню, что когда он, наконец, заговорил, то я словно встрепенулся от глубокой задумчивости.
— Ваш отец, должно быть, добрейший из отцов, — сказал он. — Чего он не приедет сюда повидаться с вами?
У меня нашлось бы на это несколько дюжин ответов готовых, да еще больше того в запасе; но Мейнер со свойственной ему проницательностью, из-за которой его все боялись и которой все дивились, внезапно уставился на меня сквозь свои очки и спросил:
— Вы настаивали на том, чтобы он приехал?
Кровь залила мое лицо. О, нет, никогда я не настаивал на том, чтобы он приехал; никогда даже никак и ничем его не побуждал к тому. Я им гордился, гордился его внешностью, его манерами, его лицом, которое становилось таким ясным, когда он видел, что другие счастливы; гордился, хотя и нехорошо, пожалуй, было этим гордиться, его большим богатством и щедростью. Притом он знал о моей жизни в Париже во всех подробностях, и кое-что в этой жизни не одобрял. Я боялся, чтобы кто-нибудь не стал насмехаться над его наивными отзывами об искусстве. Я всем говорил, да отчасти и сам тому верил, что он не собирается в Париж. Я был и теперь еще остаюсь в убеждении, что вне Мускегона он всюду будет чувствовать себя нехорошо. Словом, у меня были тысячи всяких дурных и хороших причин ни на йоту не сомневаться в том, что он ждет только моего приглашения.
— Спасибо вам, Мейнер, — сказал я, — вы лучший товарищ, чем я думал. Я сегодня же напишу ему.
— О, вы очень скромный человек, — ответил он с более чем обычной живостью, но как мне казалось, без малейшего следа иронии.
Да, это были хорошие дни, о которых я всегда буду помнить. Не дурны были и те, которые за ними последовали, когда мы с Пинкертоном слонялись по Парижу и его пригородам, осматривая дома для моей новой мастерской и прицениваясь к ним, или, покрытые пылью, несли домой разных китайских идолов и бронзовые вещи, приобретенные у старьевщиков. Пинкертон потратил немало денег на покупку разных картин и редкостей для Соединенных Штатов; тут в этом деле, между прочим, выяснилось, что он, не будучи знатоком, проявил себя все же хорошим оценщиком. Сами вещи не возбуждали в нем ровно никакого чувства, но он радовался, что дешево купил их и дорого продает.
Между тем подошло время, когда я должен был получить ответное письмо от отца. Почта приходила каждый день, но мне ничего не доставляли. Наконец я получил какое-то странное письмо, почти бессвязное, в котором оыли и утешения, и ободрения, и вопли раскаяния и отчаяния. Из этого возбуждавшего жалость документа, который я, движимый сыновним чувством, поспешил сжечь как только прочитал, я убедился в том, что пузырь богатства моего отца лопнул, что он и нищ, и болен, я вместо того, чтобы получить десять тысяч долларов и растранжирить их по-мальчишески, мог быть спокоен за свою будущность лишь в пределах той четверти года, которая у меня была оплачена. Касса моя пока еще была довольно исправна; но во мне нашлось достаточно здравого смысла, чтобы понять, и достаточно благоприличия, чтобы исполнить свой долг. Я продал все свои редкости, или, правильнее сказать, поручил Пинкертону продать их; но он так экономно их покупал и так расчетливо распродал, что потеря моя на них оказалась ничтожной. Вместе с тем, что у меня оставалось от последней пенсии, у меня всего скопилось не менее пяти тысяч франков. Из них пятьсот я отложил на мои текущие нужды; остальные все на той же неделе отправил отцу в Мускегон, куда эти деньги и пришли как раз ему на похороны.
Известие о смерти отца поразило меня более как неожиданность, нежели как горе. Я не мог себе представить отца бедным человеком. Он слишком долго вел жизнь беззаботную и расточительную, чтобы перенести такую перемену. За себя я горевал, но за отца радовался, что он ушел от предстоящей житейской борьбы. Я сказал, что горевал за себя; кто знает, может быть, в то самое время тысячи людей тоже горевали по причинам гораздо более ничтожным. Я потерял отца; я лишился средств к существованию; все мое богатство, считая и то, что мне пришлют обратно из Мускегона, едва ли превысит тысячу франков; да еще к довершению моей беды контракт на поставку статуй перейдет в другие руки. А у нового контрагента был свой собственный сын или, быть может, племянник, и мне с надлежащими соболезнованиями было дано знать, чтобы я искал другой рынок для моего товара. Я сдал свою комнату и стал ночевать в мастерской на складной кровати. И теперь, было ли дело ночью, когда я укладывался спать, или утром, когда я просыпался, передо мной торчала эта, отныне бесполезная груда — мой Мускегонский Гений. Бедная каменная барыня! Явилась она на свет для того, чтобы воцариться над позолоченным, гулкозвучным куполом нового Капитолия, а теперь кто знает, какая судьба ее ждет! Может быть, она будет разбита, пойдет в лом, как неудачно выстроенное судно, негодное для плавания! И что-то станется с ее злополучным создателем, с его тысчонкой франков на пороге такой трудной жизни, как жизнь скульптора!
Обо всем этом мы с Пинкертоном часто разговаривали. По его мнению, мне следовало немедленно бросить мою профессию.
— Бросить надо все это, сейчас же! — убеждал он меня. — Поедем вместе домой и там всей душой уйдем в дела. У меня есть деньги, у вас образование. «Додд и Пинкертон»! Лучшего сочетания имен для объявлений я и не видывал. А вы себе представить не можете, Лоудон, как много значит имя!
Я лично держался того мнения, что скульптор должен обладать одним из трех достоинств: капиталом, значением или же энергией, но не менее как адской. Два первых шанса у меня теперь были утрачены, а к третьему у меня никогда не было ни малейшего позыва. Поэтому у меня теперь и обозначилось малодушие (а кто знает, пожалуй, и мужество), побуждавшее меня повернуться спиной к моей карьере, хотя и не бежать от нее. Я говорил Пинкертону, что как ни малы были мои шансы на успех по скульптурной части, но в коммерческих делах они могут оказаться еще слабее, и что к ним-то я уже совсем не чувствую ни склонности, ни способности. Но об этом он рассуждал так же, как покойный отец. Он уверял меня, что я говорю не зная дела; что каждый умный и образованный человек наверняка будет иметь успех в торговле; что я должен в этом смысле унаследовать способности своего отца; и что, наконец, я подготовлен к этому в торговой школе.
— Но вспомните же, Пинкертон, — говорил я ему, — что за все время пребывания здесь я не выказывал ни малейшего интереса к какому-либо торговому делу! Для меня всякое «дело» — чистая отрава!
— Не может этого быть! — кричал он. — Невозможно это! Вам нельзя будет жить среди дел и не чувствовать стремления к ним! Какая бы там ни была у вас поэтическая душа, вам не утерпеть! Ей-Богу, Лоудон, вы меня с ума сведете! Ведь подумайте — там, где люди бьются с утра до ночи, до истощения сил, вы не хотите рискнуть грошом, чтобы попытать счастье! Тут у вас, около самых рук ваших, целая будущность, целое богатство, и вы только высматриваете какую-нибудь щелочку, куда бы можно было просунуть руку с долларом, и вы стоите одной ногой в разорении, а другой — на груде долларов, и все кругом вас бурлит и кипит в погоне за удачей, — да неужели все это не способно вовлечь в себя человека и закружить его!