Избранное
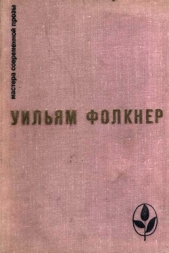
Избранное читать книгу онлайн
В книгу вошли повесть «Медведь» - казалось бы, ну что можно вместить значительного и стоящего в коротенькую лесную повесть? А вот ведь поместилась и целая жизнь нескольких живых существ — в основном людей, но ещё и одной собачьей Личности, и плюсом к ним судьба Медведя с собственным именем, по заслугам данным ему матёрыми охотниками. И масса описаний природы тех североамериканских диких лесных мест...
«Осквернитель праха» — своеобразный детектив, в котором белый подросток спасает негра, ложно обвиненного в убийстве.
В романе «Сарторис» раскрывается трагедия молодого поколения южан, которые оказываются жертвами противоборства между красивой легендой прошлого и и реальностью современной им жизни. Выросшие под обаянием рассказов о героическом прошлом своих семейств, они оказываются беспомощными, когда сталкиваются лицом к лицу с действительностью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он недоумевал всего какую-нибудь секунду. «Они все пошли кругом, к тому входу», — быстро, совершенно спокойно подумал он, не сразу нащупав (он заметил, что машина теперь остановилась) нужную ручку дверцы; машина шерифа и пикап тоже остановились у трапа, по которому трое или четверо мужчин катили тележку с носилками к откинутой Сзади дверце пикапа, и он даже слышал позади голос дяди:
— Ну, теперь домой, и уложим тебя спать, пока твоя мамочка не догадалась вызвать доктора, чтобы он нам с тобой закатил укол из громадного шприца, — и тут он нащупал ручку и вылез из машины и, слегка споткнувшись — правда, только один раз, — стал очень твердо отбивать шаг по асфальту, хотя вовсе не спешил, просто ноги у него затекли от сидения в машине или, может быть, они даже одеревенели у него после такой беготни вверх и вниз по трясине через заросли, уж не говоря о том, что всю ночь он только и делал, что раскапывал да закапывал могилы, но по крайней мере хоть от сотрясения путаница в мозгах как-то проясняется, или, может быть, это от ветра при ходьбе; во всяком случае, если ему опять что-то представится, он хоть будет смотреть на это с ясной головой; вот теперь они идут по проходу между похоронным бюро и соседним зданием, но, конечно, они опоздали: Лицо теперь уже в последнем сокрушительном натиске давно перехлестнуло через Площадь, через тротуар, ворвалось, грохнув, в разлетевшуюся вдребезги витрину, растоптав маленькую черную с бронзовыми буквами дощечку с именами и званиями компаньонов похоронной фирмы и единственную жалкую чахлую пальму в коричневом горшке, разнесло в клочья выгоревшую бордовую занавеску, последний жалкий заслон, ограждавший то, что осталось от Джека Монтгомери, или все, что осталось от его доли человеческого достоинства.
Теперь они вышли из прохода на тротуар к Площади, и вдруг он так и застыл на месте — кажется, чуть ли не в первый раз с тех пор, как они с дядей встали из-за стола после ужина и вышли из дому неделю, месяц или год или сколько там ни прошло с того воскресного вечера. Потому что на этот раз ему не понадобилось даже и мигнуть. Конечно, они стояли там, прижавшись носом к стеклу, но их было так мало, что они не могли бы даже загородить тротуар, а уж где там составить Лицо, ну, тоже, может быть, человек десять, не больше, и главным образом мальчишки, которым в это время следовало бы сидеть в школе; ни одного деревенского лица и даже ни одного настоящего мужчины, потому что остальные трое или четверо, хотя по росту их и можно было бы принять за мужчин, не были ни мужчины, ни мальчики, и они вечно торчали здесь — и когда старик эпилептик дядя Хоген Мосби из дома призрения свалился в канаву с пеной у рта, и когда Уилли Инграм ухитрился в конце концов всадить пулю в ногу или в бок собаке, про которую какая-то женщина сообщила ему по телефону, что она бешеная; и, стоя на тротуаре у выхода на Площадь, в то время как дядя медленно поднимался по проходу, и, не переставая моргать воспаленными сухими веками, он смотрел, что за притча: Площадь еще была далеко не пустая, хаки, и ситец, и сатин вливались в нее, текли потоком к стоянкам машин и грузовиков, толпились, теснились перед дверцами, входили один за другим, влезали, карабкались, вскакивали, размещаясь на сиденьях, на подстилках, в кабинах; и уже взвывали стартеры, гудели запущенные моторы, скрежетали передачи скоростей, а люди все еще бежали к машинам, и вот не одна, а пять или шесть машин сразу попятились со стоянки, развернулись и покатили, а люди все еще подбегают к ним, хватаются за борта кузова, прыгают на ходу, а дальше он уже потерял счет и даже и не пытался считать; стоя рядом с дядей, он смотрел, как они стягиваются в четыре плотных потока и текут по четырем главным улицам, ведущим вон из города в четырех направлениях, набирая скорость прежде даже, чем выехать с Площади; лица мелькают еще один последний миг, не обернувшиеся, а устремленные прочь, ни на что, прочь — и только раз, еще один последний раз, всего на миг и исчезают — в профиль, и кажется, будто гораздо быстрее, чем машина, которая их везет: судя по лицам, они уже покинули город задолго до того, как скрылись из виду, и вдвое быстрее, чем их умчала машина; и вдруг мама выросла рядом: стоит, не прикасаясь к нему, тоже, наверное, свернула в проход, когда шла из тюрьмы мимо трапа, где они, должно быть, все еще вытаскивают Монтгомери из машины, — но ведь дядя говорил, что они все могут выдержать при условии, что за ними всегда остается право утверждать, что они ничего не видели, — и спрашивает дядю:
— Где машина? — И потом, даже не дожидаясь ответа, поворачивается и идет по тротуару обратно, впереди них, стройная, прямая, строгая, как будто смотрит на них спиной, а каблучки так дробно постукивают по асфальту, как бывает иногда дома, и тогда все они — он, Алек Сэндер, и папа, и дядя — стараются держаться потише, и опять мимо трапа, где стоят теперь только пустая машина шерифа и пустой пикап, и в проход, и вот она уже открыла дверцу машины; тут они с дядей подошли и увидели снова в проеме в конце прохода, как они плывут мимо, словно по сцене — машины, грузовики, лица, неуклонно в профиль, не изумленные, не в ужасе, а в каком-то необратимом отречении; мелькают мимо сплошным непрерывным потоком, и так много их, словно это старшие классы школы или, может быть, возвращающаяся с гастролей выездная труппа, дававшая представление «Битвы на холме Сен-Жуан», — и вам не только не слышно, вам даже и не надо заставлять себя ни слышать этот смутно-приглушенный закулисный шум, ни видеть, как только что наступавшие или осаждавшие войска, едва очутившись за кулисами, забегали, засуетились, поспешно меняясь мундирами, шляпами, поддельными повязками раненых, чтобы потом снова появиться из-за спускающейся складками размалеванной кисеи, изображающей битву, отвагу и смерть, и, примкнув к собственному арьергарду, снова героическим маршем пройти по сцене.
— Мы сначала отвезем домой мисс Хэбершем, — сказал он.
— Садись, — сказала мама, и после первого поворота налево на улицу позади тюрьмы он все еще слышал их, а когда они еще раз повернули налево на следующую поперечную улицу, опять в проеме, словно на авансцене, сплошным непрерывным потоком лица, застывшие в профиль над протяжным свистом колес по асфальту, а ведь ему пришлось ждать сегодня утром в пикапе минуты две-три, чтобы улучить момент и влиться в этот поток, и он ехал в одном направлении с ним; а дяде придется ждать минут пять — десять, чтобы нырнуть сквозь него и вернуться обратно к тюрьме. — Ну, что же ты? — сказала мама. — Заставь их пропустить, ведь тебе только влиться в ряд. — И он понял, что они вовсе и не собираются ехать к тюрьме, и он сказал:
— А мисс Хэбершем…
— А как прикажешь это сделать? — сказал дядя. — Просто закрыть глаза и нажимать изо всех сил правой ногой? — И, наверно, он так и сделал, потому что теперь они мчались в потоке и заворачивали вместе с ним к дому, все как положено, да об этом он даже и не беспокоился — что там влиться в поток, а вот как выскочить из него вовремя, прежде чем эта дикая сутолока
— ну, не бегства, если кому не нравится так называть, а, скажем, исхода — подхватит и унесет их с собой, и тогда уж поток будет кружить их до темноты, пока из них чуть ли не дух вон, и наконец выплюнет еле живых поздней ночью, где-то у самой границы округа, а где — даже и на карте не разглядишь, и придется им оттуда добираться пешком в темноте; и опять он сказал:
— А мисс Хэбершем?
— У нее же пикап, — сказал дядя. — Ты что, не помнишь? — а он вот уже минут пять только и думал об этом и даже раза три пытался было сказать: мисс Хэбершем в пикапе, и дом ее меньше чем в полумиле отсюда, но все дело в том, что она не может туда попасть, потому что дом ее по одну, а пикап — по другую сторону этого непроницаемого барьера несущихся впритык машин и грузовиков, и он так же недосягаем для старой благородной девицы в подержанном пикапе, как если бы был в Монголии или на Луне; она сидит в своей машине с уже запущенным мотором, сцепление включено, нога на акселераторе, одинокая, независимая, покинутая, прямая и хрупкая под своей негнущейся допотопной и даже вымершей шляпой — глядит, пережидает и только думает, как бы ей прорваться сквозь эту лавину, чтобы можно было убрать починенное белье, накормить цыплят, поужинать и лечь отдохнуть после тридцати шести часов без сна, что в семьдесят лет должно быть похуже, чем все сто в шестнадцать, глядит и пережидает это головокружительное мельканье профиля еще, еще немножко и даже довольно долго, но не вечно же, не слишком долго, потому что она женщина практичная, ей не понадобилось долго думать, чтобы решить, что единственный способ вытащить мертвеца из могилы — это поехать к нему на могилу и выкопать его, так и теперь она не будет слишком долго раздумывать, прежде чем решить, что единственный способ обойти препятствие, а ведь сейчас скоро уже и солнце зайдет, — это объехать его, и вот она уже гонит пикап параллельно препятствию и в том же направлении, одинокая, покинутая, но все еще такая же независимая, ну, может быть, она немножко нервничает, оттого что только сейчас поняла, что она едет несколько быстрей, чем привыкла и любит ездить, сказать по правде, быстрей, чем она когда-либо ездила, и все еще она не вровень с ним, а только почти, потому что теперь он мчится на большой скорости — сплошной бесконечный свист в профиль, — и она понимает, что даже если и будет прорыв, у нее, может, не хватит сноровки, или силы, или быстроты движений и верного глаза, или просто мужества; и она гонит все скорее и с таким напряжением следит одним глазом, не покажется ли прорыв, а другим поглядывает, как бы не сбиться с дороги, что только уже спустя некоторое время сообразит, что она повернула не на юг, а на восток, и теперь не только ее дом быстро и неуклонно уменьшается, исчезая позади, но и Джефферсон тоже, потому что ведь оно или они ринулись из города не только в одном направлении, но по всем главным улицам, ведущим прочь из города — от тюрьмы, и похоронного бюро, и Лукаса Бичема, и того, что осталось от Винсона Гаури и Монтгомери, — вот как водяные клопы на пруду бросаются сразу наутек во все стороны, когда швырнешь камень, — и тогда на нее находит храбрость отчаяния — ведь расстояние, отделяющее ее от дома, все растет, и скоро уже опять, ночь, и теперь она уже готова проскочить в любой прозор, в любую щель, старенький пикап мчится, едва касаясь земли, рядом с непроницаемым, слившимся в смутное пятно, мелькающим профилем, продвигаясь все ближе и ближе, совсем близко, и тут происходит неизбежное: глаз обманул, и дрогнула рука, или в самый напряженный момент, когда надо было зорко вглядеться, мигнула нечаянно, или просто что-то попалось на пути — камень, куча земли, что-то такое, чему предъявлять обвинения все равно как господу богу, — только она оказалась слишком близко, и потом было уже поздно, пикап рвануло, подхватило потоком колес на шинах и шарикоподшипниках выделанной прокатной стали и вихрем понесло в этой мешанине, и она мчится, по-прежнему вцепившись в теперь уже бесполезную баранку, нажимая на давно уже выжатый до конца акселератор, одинокая, затерянная, через медленно уходящий, мирно угасающий день, под нежно алеющий безветренный купол сумерек, все быстрее и быстрее, в последнем крещендо, к самой окраине, к самой границе округа, где они разлетятся во все стороны, скрывшись мгновенно по разным проселкам и проходам, как крысы или кролики, нырнувшие наконец каждый в собственную нору, и пикап замедлит ход и остановится чуть наискось, поперек дороги, там, где его выплюнул поток, потому что теперь уж она в безопасности, в округе Кроссмен, и может повернуть обратно на юг вдоль границы Йокнапатофы, включить фары и ехать с какой хочет скоростью по этим не отмеченным столбами проселочным дорогам; сейчас уже совсем ночь, и она уже в округе Мотт, и здесь можно взять на запад и теперь уже смотреть в оба, чтобы не упустить, когда можно будет повернуть на север и вынырнуть на шоссе, — девять и уже десять часов по окольным дорогам, совсем рядом с незримой чертой, за которой мечущиеся вдали огни фар вспыхивают и мелькают, ныряя в свои берлоги и норы, вот и округ Окатоба, скоро уже полночь, и, конечно, она здесь может повернуть на север и назад в Йокнапатофу, усталая, измученная, одинокая и неукротимая, а кругом только сверчки, лягушки, светляки, совы, козодои да собаки выскакивают с лаем из-под уснувших домов, и наконец какой-то человек, в ночной рубахе, в башмаках с распущенными шнурками, идет с фонарем:























