Критикон
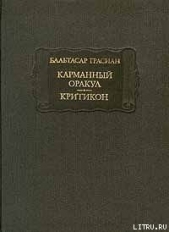
Критикон читать книгу онлайн
Своеобразие замысла «Критикона» обозначается уже в заголовке. Как правило, старые романы, рыцарские или плутовские, назывались по собственному имени главного героя, так как повествовали об удивительной героической или мошеннической жизни. Грасиан же предпочитает предупредить читателя об универсальном, свободном от чего-либо только индивидуального, об отвлеченном от всего лишь «собственного», случайного, о родовом, как само слово «человек», содержании романа, об антропологическом существе «Критикона», его фабулы и его персонажей. Грасиан усматривает в мифах и в знаменитых сюжетах эпоса, в любого рода великих историях, остроумно развиваемые высшие философские иносказания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– О, господи! – возразил Критило. – Ничего тут нет удивительного – прежде короли сами сражались, не их заместители, а большая разница, кто ведет бой – господин или слуга. Уверяю вас, батарея пушек не сравнится с одним взглядом короля.
– Вслед за одной королевой доньей Бланкой, – продолжал Придворный, – идут сто черных [744]. Но ныне, в другой королеве Испании [745]вновь расцвела прежняя Бланка и в благочестивой Христине [746] шведской возродилась императрица Елена [747]. Больше скажу вам: вновь появился сам Александр [748], только христианин; не язычник, но святой; не тиран, угнетатель многих стран, но отец всему миру, покоряющий его для Неба. Протрите полотном, – прибавил он, – свои стекла, и ежели полотном савана – тем лучше, оно лучше очистит их от прилипчивого праха земного. А теперь поглядите-ка на небо.
Они подняли глаза и благодаря волшебной силе прозрачных кристаллов узрели такое, чего никогда не видели. Великое множество тончайших нитей наматывались на небесные катушки, а тянулись нити от каждого из смертных, как из клубка.
– Ух, как тонка небесная пряжа! – сказал Андренио.
– Это нити жизни нашей, – объяснил Придворный. – Примечайте, как они непрочны, от какой малости мы все зависим.
Диво-дивное было глядеть на людей, как они, ни на миг не останавливаясь, катились и прыгали, будто и впрямь клубочки, а небесные сферы вытягивали из них силы, поглощали жизнь, пока не лишат человека всех благ и радостей, – остается ему тряпки клочок, саван убогий. И таков конец всему. От одних тянулись нити тонкие, шелковые, от других – золотые, от третьих – пеньковые да пакляные.
– Наверно, золотые да серебряные нити, – сказал Андренио, – идут от богатых?
– Ошибаешься.
– От знатных?
– Тоже нет.
– От государей?
– Слабовато рассуждаешь!
– Разве это не нити жизни?
– Они самые.
– А ежели так, то какова была жизнь, такова будет нить.
– Бывает, что от благородного тянется нить пакляная, а от простого – серебряная, даже золотая.
Здесь умирал один, там другой; этому оставалось совсем немного, когда жизнь начинал тот; природа прядет нить жизни, а Небо, знай, ее мотает, с каждым оборотом день за днем у нас отымает. И когда смертные пуще хлопочут да суетятся, скачут да мечутся, тогда-то быстрей и выматываются.
– Но заметьте, как исподтишка, как безмолвно свивают нам смерть, выматывая жизнь! – дивился Критило. – Да, ошибался, видно, философ [749], сказавший, будто горние сферы одиннадцати небес издают при вращении сладостную музыку, громкозвучную гармонию. О, ежели бы так было, пробуждали бы нас ото сна! Напоминали бы всечасно о часе кончины – и была бы то не музыка для развлечения, но призыв к прозрению.
Тут странники наши оглянулись на самих себя и увидели, что не так-то много осталось им мотаться; Критило лишь укрепился в стойкости и прозрении, но Андренио овладела меланхолия.
– На сегодня достаточно, – сказал Придворный, – сойдемте вниз поесть, чтобы какой-нибудь простодушный читатель не подивился: «И чем живут эти люди – никогда нам не показывают их ни за обедом, ни за ужином – не пьют, не едят, только философствуют?»
Они прошли на многолюдную площадь, не иначе как Навонскую, где густая толпа гудела многими роями, ожидая площадного представления: Придворный, когда оно началось, скрасил его тонкими замечаниями, странники же почерпнули в нем пищу для прозрения А что это был за чудо-балаган, о том сулит нам поведать следующий кризис.
Кризис XI. Свекруха Жизни
Человек умирает, когда только бы и жить – когда он стал личностью, обрел благоразумие и мудрость, накопил знания и опыт, когда созрел и поспел, блистает достоинствами, когда всего полезней и нужней своему роду, своей родине: ведь рождается он животным, а умирает личностью. Но не говорите «такой-то нынче умер», а «нынче он кончил умирать», ибо жизнь – не что иное, как каждодневное умирание. О, всемогущий, грозный закон смерти, единственный не знающий исключения, не дающий никому привилегий! А как бы надо пощадить людей великих, выдающихся деятелей, достославных государей, совершенных мужей, с коими погибают доблесть, благоразумие, стойкость, познания – порой целый город, а то и королевство! Вечно бы жить дивным героям, мужам славы, коим столь трудно дался путь к зениту их величия! Но увы, как раз наоборот: кто меньшего стоит, живет много, а кто многие имеет заслуги, живет меньше; век живет, кто недостоин и дня прожить, а люди блистательные недолговечны, промелькнут кометой – и нет их. Разумные слова изрек царь Нестор, о коем рассказывают, что он, спросив оракула о сроках жизни своей и услыхав, что проживет еще полных тысячу лет, молвил: «Стало быть, не стоит обзаводиться домом». А когда друзья стали убеждать его построить не только дом, но дворец, да не один, а много, на всякую пору и погоду, он ответствовал: «Вы хотите, чтобы на каких-нибудь тысячу лет жизни я сооружал дом? На такой краткий срок возводил дворец? Зачем? Хватит шатра или сарая, где б я мог приютиться на время. Прочно устраиваться в жизни – безумие».
О, как уместно напомнить это нынешним – ведь ныне люди, не доживая и до ста лет и не будучи уверены ни в одном дне, затевают сооружения на тысячу лет, такие дома воздвигают, как если б чаяли быть вечными на земле! Бесспорно, один из таких и сказал: случись ему узнать, что всего проживет еще год, он бы построил дом; один месяц – женился бы; одну неделю– – купил бы кровать и стул; один лишь день – сготовил бы себе олью. О, как, должно быть, смеется над подобными глупцами Смерть – разумница уже потому, что дурнушка, – когда они воздвигают просторные дома, меж тем как она роет им тесную могилу, по пословице: «Построен дом – вырыта могила». Ты себе устраиваешься, а она все расстраивает. Кончил строить дворец – и кончилась твоя жизнь, все в одночасье; семь колонн пышного здания сменяются семью футами земли или семью пядями мрамора: тщеславная, пошлая глупость, как будто среди порфира и мрамора приятней гнить, чем просто в земле!
Об этой столь очевидной истине толковал, вплетая в нее контрапункт острого прозрения, разумный наш Придворный двум пилигримам Рима. Итак, пришли они на большую площадь, заполненную чернью, с нетерпением ожидавшей одного из тех дурацких чудес, которые ее приводят в восторг.
– Что ж это будет? – спросил Андренио.
И ему ответили:
– Погодите, увидите.
И вот, появился, танцуя и прыгая на канате, чудо-человек, который по легкости движений мог бы сойти за птицу, а по безрассудной смелости – за умалишенного. Завороженные зрители глазели на него столь же бессмысленно, сколь он был бесстрашен. Они трепетали, на него глядя, а он порхал, чтоб на него глядели.
– Поразительная смелость! – вскричал Андренио. – Уверен, что такие люди сперва лишаются разума, а потом уж – страха. На твердой земле и то жизнь наша в опасности, а он готов низринуть ее в бездну.
– И ты дивишься ему? – сказал Придворный.
– Но кому ж дивиться, если не ему?
– Да себе самому.
– Мне? Но почему?
– Потому что его прыжки – пустяки сравнительно с тем, что делаешь ты. Да знаешь ли ты, на чем стоишь? Знаешь ли, по чему ходишь?
– Одно я знаю наверняка, – возразил Андренио, – знаю, что за все блага мира не залез бы так высоко, а этот безумец, ради низкой корысти, идет на такое опасное дело.
– Смешно тебя слушать! – молвил Придворный. – А что бы ты почувствовал, что сказал бы, кабы узнал, что сам-то подвергаешься куда более страшной опасности!
– Я?
– Да, ты.
– Почему же?
– Скажи, разве не ходишь всякий час, всякий миг по нити своей жизни, далеко не такой толстой и прочной, как канат, тоненькой, как паутинка, даже более того, а ты на ней скачешь и пляшешь? На ней ешь, спишь, отдыхаешь, не ведая ни тревог, ни опасений. Поверь, все смертные – бесстрашные плясуны на тонкой нити бренной нашей жизни, и различие меж нами лишь в одном: одни падают сегодня, другие завтра. На этой ниточке люди строят большие дома и пребольшие химеры, воздвигают воздушные замки и зиждут свои надежды. Они дивятся, глядя на смельчака, гуляющего по толстому, надежному канату, и не изумляются себе самим, доверяющимся не верной веревке, а шелковинке – где там, волоску, нет, и того менее, паутинке, да и паутинка в сравнении с нитью жизни еще прочна. Вот чему бы людям ужасаться, вот отчего волосам бы становиться дыбом – тем паче, когда взору отверзается бездна бедствий, куда их низвергает тяжкое бремя грехов премногих.
























