Детство. В людях. Мои университеты

Детство. В людях. Мои университеты читать книгу онлайн
Вступительная статья Даниила Гранина. Иллюстрации Б. Дехтерева.
Знаменитая автобиографическая трилогия Максима Горького — одно из сокровищ русской литературы. Три сюжетно связанные повести: «Детство», «В людях» и «Мои университеты » — рассказывают о трудностях начала самостоятельной жизни писателя, формировании его характера и мировоззрения. Многочисленные испытания, непрестанная борьба за существование, описанные в книге, показывают, как сложно жить простому народу на Руси, из чего и при каких условиях постепенно складывался нравственный образ русского человека. Настоящее издание приурочено к 150-летию со дня рождения писателя и открывает новую серию «Волжский роман».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ваня!
На голове у нее пестрый платок, из-под него выбиваются курчавые, светлые волосы, осыпая мелкими колечками ее красные, мячами надутые щеки, низенький лоб, щекоча полусонные глаза. Она лениво отмахивает волосы с лица маленькими руками, пальцы их забавно растопырены, точно у новорожденного ребенка. Интересно — о чем можно говорить с такой девицей? Я бужу пекаря, он спрашивает ее:
— Пришла?
— Видишь.
— Спала?
— Ну, а как же?
— Что видела во сне?
— Не помню…
Тихо в городе. Впрочем — где-то шаркает метла дворника, чирикают только что проснувшиеся воробьи. В стекла окон упираются тепленькие лучи восходящего солнца. Очень приятны мне эти задумчивые начала дней. Вытянув в окно волосатую руку, пекарь щупает ноги девицы, она подчиняется исследованию равнодушно, без улыбки, мигая овечьими глазами.
— Пешков, вынимай сдобное, пора!
Я вынимаю из печи железные листы, пекарь хватает с них десяток плюшек, слоек, саек, бросая их в подол девушке, а она, перебрасывая горячую плюшку с ладони на ладонь, кусает ее желтыми зубами овцы, обжигается и сердито стонет, мычит.
Любуясь ею, пекарь говорит:
— Опусти подол, бесстыдница…
А когда она уходит, он хвастается предо мною:
— Видал? Как ярочка, вся в кудряшках. Я брат, чистоплотный, с бабами не живу, только с девицами. Это у меня — тринадцатая! Никифорычу — крестная дочь.
Слушая его восторги, я думаю:
«И мне — так жить?»
Вынув из печи весовой белый хлеб, я кладу на длинную доску десять, двенадцать караваев и поспешно несу их в лавочку Деренкова, а возвратясь назад, набиваю двухпудовую корзину булками и сдобным и бегу в духовную академию, чтоб поспеть к утреннему чаю студентов. Там, в обширной столовой, стою у двери, снабжая студентов булками «на книжку» и «за наличный расчет», — стою и слушаю их споры о Толстом; один из профессоров академии, Гусев, — яростный враг Льва Толстого. [207] Иногда у меня в корзине под булками лежат книжки, я должен незаметно сунуть их в руки того или другого студента, иногда — студенты прячут книги и записки в корзину мне.
Раз в неделю я бегаю еще дальше — в «Сумасшедший дом», где читал лекции психиатр Бехтерев, [208] демонстрируя больных. Однажды он показывал студентам больного манией величия: когда в дверях аудитории явился этот длинный человек, в белом одеянии, в колпаке, похожем на чулок, я невольно усмехнулся, но он, остановись на секунду рядом со мною, взглянул в лицо мне, и я отскочил, — как будто он ударил в сердце мое черным, но огненным острием своего взгляда. И все время, пока Бехтерев, дергая себя за бороду, почтительно беседовал с больным, я тихонько ладонью гладил лицо свое, как будто обожженное горячей пылью.
Больной говорил глухим басом, он чего-то требовал, грозно вытягивая из рукава халата длинную руку с длинными пальцами, мне казалось, что всё его тело неестественно вытягивается, бесконечно растет, что этой темной рукою он, не сходя с места, достигнет меня и схватит за горло. Угрожающе и властно блестел из темных ям костлявого лица пронизывающий взгляд черных глаз. Десятка два студентов рассматривают человека в нелепом колпаке, немногие — улыбаясь, большинство — сосредоточенно и печально, их глаза подчеркнуто обыкновенны в сравнении с его обжигающими глазами. Он страшен, и что-то величественное есть в нем, — есть!
В рыбьем молчании студентов отчетливо звучит голос профессора, каждый вопрос его вызывает грозные окрики глухого голоса, он исходит как будто из-под пола, из мертвых, белых стен, движения тела больного архиерейски медленны и важны.
Ночью я писал стихи о маниаке, называя его «владыкой всех владык, другом и советником бога», и долго образ его жил со мною, мешая мне жить.
Работая от шести часов вечера почти до полудня, днем я спал и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлеб в печь. По мере того как я постигал тайны ремесла, пекарь работал все меньше, он меня «учил», говоря с ласковым удивлением:
— Ты — способный к работе, через год, два — будешь пекарем. Смешно. Молодой ты, не будут слушать тебя, уважать не будут…
К моему увлечению книгами он относился неодобрительно.
— Ты бы не читал, а спал, — заботливо советовал он, но никогда не спрашивал: какие книги читаю я?
Сны, мечты о кладах и круглая, коротенькая девица совершенно поглощали его. Девица нередко приходила ночью, и тогда он или уводил ее в сени на мешки муки, или — если было холодно — говорил мне, сморщив переносье:
— Выдь на полчасика!
Я уходил, думая: «Как страшно не похожа эта любовь на ту, о которой пишут в книгах…»
В маленькой комнатке за магазином жила сестра хозяина, я кипятил для нее самовары, но старался возможно реже видеть ее — неловко было мне с нею. Ее детские глаза смотрели на меня всё тем же невыносимым взглядом, как при первых встречах, в глубине этих глаз я подозревал улыбку, и мне казалось, что это насмешливая улыбка.
От избытка сил я был очень неуклюж, пекарь, наблюдая, как я ворочаю и таскаю пятипудовые мешки, говорил, сожалея:
— Силы у тебя — на троих, а ловкости нет! И хоша ты длинный, а все-таки — бык…
Несмотря на то что я уже немало прочитал книг, любил читать стихи и сам начинал писать их, — говорил я «своими словами». Я чувствовал, что они тяжелы, резки, но мне казалось, что только ими я могу выразить глубочайшую путаницу моих мыслей. А иногда я грубил нарочито, из протеста против чего-то чуждого мне и раздражавшего меня.
Один из учителей моих, студент-математик, упрекал меня:
— Чёрт вас знает, как говорите вы. Не словами, а — гирями!
Вообще — я не нравился себе, как это часто бывает у подростков; видел себя смешным, грубым. Лицо у меня — скуластое, калмыцкое, голос — не послушен мне.
А сестра хозяина двигалась быстро, ловко, как ласточка в воздухе, и мне казалось, что легкость движений разноречит с круглой, мягкой фигуркой ее. Что-то неверное есть в ее жестах и походке, что-то нарочное. Голос ее звучит весело, она часто смеется, и, слыша этот звонкий смех, я думаю: ей хочется, чтоб я забыл о том, какою я видел ее первый раз. А я не хотел забыть об этом, мне было дорого необыкновенное, мне нужно было знать, что оно возможно, существует.
Иногда она спрашивала меня:
— Что вы читаете?
Я отвечал кратко, и мне хотелось спросить ее:
«А вам зачем знать это?»
Однажды пекарь, лаская коротконогую, сказал мне хмельным голосом:
— Выдь на минутку. Эх, шел бы ты к хозяйской сестре, чего зеваешь? Ведь студенты…
Я обещал разбить ему голову гирей, если он скажет еще что-нибудь такое же, и ушел в сени, на мешки. В щель неплотно прикрытой двери слышу голос Лутонина:
— Зачем я буду сердиться на него? Он насосался книг и — вроде сумасшедшего живет…
В сенях пищат и возятся крысы, в пекарне мычит и стонет девица. Я вышел на двор, там лениво, почти бесшумно сыплется мелкий дождь, но все-таки душно, воздух насыщен запахом гари — горят леса. Уже далеко за полночь. В доме напротив булочной открыты окна; в комнатах, неярко освещенных, поют:
Я пытаюсь представить себе Марию Деренкову лежащей на коленях у меня, — как лежит на коленях пекаря его девица, — и всем существом моим чувствую, что это невозможно, даже страшно.
Задорно выделяется из хора густое, басовое — о. Согнувшись, упираясь руками в колени, я смотрю в окно; сквозь кружево занавески мне видно квадратную яму, серые стены ее освещает маленькая лампа под голубым абажуром, перед нею, лицом к окну, сидит девушка и пишет. Вот — подняла голову и красной вставкой для пера поправила прядь волос на виске. Глаза ее прищурены, лицо улыбается. Она медленно складывает письмо, заклеивает конверт, проводя языком по краям его, и, бросив конверт на стол, грозит ему маленьким пальцем, — меньше моего мизинца. Но — снова берет письмо, хмурясь, разрывает конверт, читает, заклеивает в другой конверт, пишет адрес, согнувшись над столом, и размахивает письмом в воздухе, как белым флагом. Кружась, всплескивая руками, идет в угол, где ее постель, потом выходит оттуда, сняв кофточку, — плечи у нее круглые, как пышки, — берет лампу со стола и скрывается в углу. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собою, — он кажется безумным. Я хожу по двору, думая о том, как странно живет эта девушка, когда она одна в своей норе.
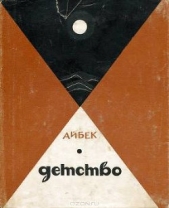

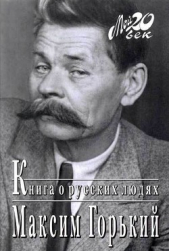


![Биограф[ия]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)




















