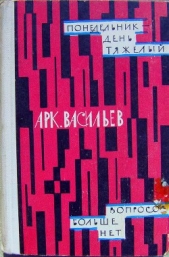Выше жизни

Выше жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Монастырь Брюгге мало-помалу приходил в упадок… Медленное угасание! Теперь там было только пятнадцать монахинь, точно беспрестанно редевшее стадо вокруг настоятельницы… Они занимали только некоторые из келий — с белыми и зелеными ставнями, фасадом оттенка дождя, — но нельзя было различить, какие были заняты, какие пусты, так как стекла одинаково отсвечивали, имели скромным вид, стремились только отражать вязы, растущие на площадке, и стоящую напротив часовню, — быть верными зеркалами обители. Вследствие этого странноприимный дом, за недостатком монахинь, отдавался внаймы светским людям, нескольким старикам; Бартоломеусу пришла мысль устроить там свою мастерскую. Это жилище было настоящим монастырем, со стенами, покрытыми известкой. Он не нуждался в большой комнате, так как, за неимением заказов на декоративные работы, до сих пор не полученные им, он покорно ограничил себя созданием картин на мольберте, небольшими полотнами, которые он медленно рисовал, соединял, беспрестанно усовершенствовал ради одного наслаждения творчества. Никакой заботы о продаже, никакого желания нравиться!.. У него были небольшие средства, на которые он мог жить просто, и он удовлетворялся этим. Здесь он работал плодотворно. Правильное освещение, одно из тех дрожащих освещений, которые можно встретить на севере, — когда солнце кажется серебряным через неопределенную серую дымку, — входило в окна. И какое уединение, какая безмолвная обстановка! Бартоломеус работал под звуки нескольких редких гимнов, распевавшихся хорошим монашеским хором. Он видел монахинь, когда они возвращались, одна за другой, в свои домики, напоминая овец, возвращающихся в овчарню. Он изучил и набросал некоторые из их движений, их тихие жесты, их прямую походку, колыхание белых головных уборов, в особенности, складки их черных одежд, словно трубы органа. Он мечтал стать художником монахинь, набросал несколько картин, вдохновившись ими, собирал без конца рисунки, наброски, всегда находясь у окна, внимательно приглядываясь. Затем это ему надоело, он нашел это искусство слишком материалистическим, слишком зависящим от формы и пластики жизни. Он стал искать в самом себе, направился в другую сторону.
Известие, сообщенное Борлютом, еще раз поколебало его идеал, всю его жизнь. — Ну, ты доволен? — спросил его друг, видя, что он весьма равнодушен.
— Несколько лет тому назад я был бы счастлив, — отвечал художник. — Теперь я занят другими планами.
— Но у тебя, по твоим же словам, была способность, в особенности к фрескам. Ты считал декоративное искусство высшим проявлением художества.
— Может быть, но есть еще более интересное искусство! Бартоломеус направился тогда к углу старой приемной монастыря, с светлыми стенами, служившей ему мастерской; он переорал полотна, картины в рамах, которые все были перевернуты, выбрал одну из них, задумался, затем взял ее и поставил на мольберт.
Вот! — сказал он. — Несколько предметов в особом освещении — это изображение окна в октябрьские сумерки.
Борлют смотрел, постепенно увлекаясь, приходя в восторг. Это была не живопись, а что-то другое, что-то лучшее! Можно было забыть о всех обычных приемах, которые, к тому же, все сливались: тут был рашкуль, с светлыми оттенками краски, умелое соединение пастели, рисунков карандашом, тушью, таинственных штрихов… В картине чувствовался вечер. Это были точно тень и молчание, выставленные под стеклом.
Бартоломеус прервал его:
Я хотел показать, что предметы чувствительны, страдают от приближения ночи, замирают с последним лучом. Но этот луч тоже полон жизни; он также страдает; он борется с темнотой. Если вы хотите — это жизнь предметов. Во Франции это назвали бы nature morte. Но я подразумеваю не то. По-фламандски это выражается еще лучше: молчаливая жизнь.
Художник показал другое произведение. Это была не очень большая фигура божественной женщины, одетой в костюм без определенной эпохи, окруженной нежными колонками, целым расцветом капителей.
— Это, — сказал Бартоломеус, — архитектура. Она точно измеряет небо… Она имеет в виду башню, на которую должна туда подняться и о которой она мечтает.
— Право, это чудесно, — сказал Борлют, серьезный и возбужденный. — Но как мало людей поймет тебя, твое искусство!
— Однако я хочу выполнить в этом смысле мою декоративную работу для города, сказал Бартоломеус. — Пусть не понимают! Главное состоит в том, чтобы творить красоту. Я работаю прежде всего и в особенности для самого себя. Необходимо, чтобы я одобрил свой труд, чтобы он нравился мне самому. Что такое значит нравиться другим, если не нравишься самому себе'? Это то же самое, что судьба позорного человека, выдающего себя за добродетельного. Разве его вследствие этого меньше будет мучить совесть? Самое главное для внутреннего удовлетворения — быть озаренным благодатью настроения. Существует и художественная благодать. Искусство является ведь тоже чем-то вроде религии! Надо любить его для него самого, для наслаждения и утешения, которое оно дает, потому что оно является самым благородным средством забыть жизнь и победить смерть!
Борлют слушал, как говорил художник, волнуясь при звуках его твердого и тихого голоса, точно он говорил по ту сторону времени. Его черная борода походила на редкий кустарник: худой и бледный, он, казалось, обладал пламенным, лихорадочным профилем поклоняющегося монаха. Все вокруг, вся его мастерская, — бывшая приемная монастыря, — имела вид кельи. Никакой роскоши: на стенах — только несколько кусков старых риз, кончиков епитрахилей, — бледных тонов, — для того, чтобы внушить себе представление о столетних соборах, отмененных процессиях; затем копии с картин фламандских примитивных художников, робких п ясновидящих, которые были его любимыми учителями; запрестольные образа, триптихи Ван-Эйка и Мемлинга, изображавших только Благовещение, поклонение волхвов, Богородицу, Младенца Иисуса, ангелов с радужными крыльями; святых, играющих на органе, как на гуслях. От этих древних литургических шелковых тканей и мистических образов вокруг Бартоломеуса создавалось настроение кельи и искусства, как религии.
— К тому же, — закончил Бартоломеус, — я всегда понимал художника, как своего рода священника, служителя идеала, который также дает обет нестяжания и целомудрия…
— Он прибавил с улыбкой: — Не потому ли я остался холостым?
— Ты хорошо сделал, заявил Борлют, который вдруг принял озабоченный вид.
— Как! Ты одобряешь мой образ действий, а сам только что женился?!
— И да, и нет.
— Значит, ты не нашел счастья?
— Никогда нельзя найти такого счастья, на которое надеешься.
— Значит, ты воображал Барбару ангелом, а она оказалась женщиной… Все они более или менее прихотливы, легко увлекаются. Барбара, в особенности, должна быть такою. Не правда ли, это — испанка, унаследовавшая кровь победителей, католический и неукротимый дух господства инквизиции, заставлявшей находить наслаждение в чужих страданиях? Ты этого не подозревал? Однако это было очевидно, потому что даже со своим кротким отцом она не могла ужиться. Как же ты смотришь на вещи? Ты неясно представляешь себе жизнь! Одно время я хотел предупредить тебя, но ты уже любил ее… — Да, я любил ее; я люблю се и теперь, — сказал Борлют, — я люблю ее странным образом, как только можно любить таких женщин. Это чувство очень трудно анализировать, так как оно изменчиво. Она сама так часто меняется! Порывы, нежное забвение, ласка отдающегося существа, слова, точно цветы, радостные уста… Затем… из-за пустяков, неверно понятого слова, опоздания, доброжелательного замечания, раздражительного движения, — начинается целый разгром! Все искажается, лицо и мысли, нервы напрягаются, заставляют ее произносить глупые, жестокие, быть может, бессознательные слова…
Борлют остановился, вдруг смутившись, удивляясь своей чрезмерной откровенности. Утром у него была новая сцена с Варварой, более жгучая, чем раньше, наполнившая его душу заботами о будущем. Это произошло так скоро после их свадьбы! Но, может быть, он преувеличивал? Он говорил под влиянием только что вынесенного впечатления. В общем, тревоги были редки, точно несколько дождливых дней в течение их трехмесячной совместной жизни. Это было, конечно, неизбежно, — закон самой природы! Борлют успокаивался, снова увлекался Барбарой, ее смуглой красотой, ее дорогим ротиком. Он слишком много нажаловался на нее. Это была вина Бартоломеуеа, вызвавшего его на это. К тому же, художник казался слегка нерасположенным к Барбаре. Может быть, она отвергла его когда-то? Кто знает, быть может, он был однажды побежден и очарован ею? Чувство обиды заставляло его заблуждаться. Борлют сердился теперь на себя за то, что тот анализировал Барбару, принимал участие в осуждении. Он сердился на него за то, что признался ему и вдался в излишние откровенности. Он сердился и на самого себя.