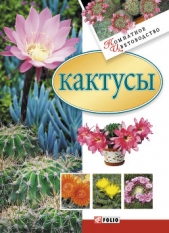Жизнь против смерти

Жизнь против смерти читать книгу онлайн
Когда смотришь на портрет Марии Пуймановой, представляешь себе ее облик, полный удивительно женственного обаяния, — с трудом верится, что перед тобой автор одной из самых мужественных книг XX века.
Ни ее изящные ранние рассказы, ни многочисленные критические эссе, ни психологические повести как будто не предвещали эпического размаха трилогии «Люди на перепутье» (1937), «Игра с огнем», (1948) и «Жизнь против смерти» (1952). А между тем трилогия — это, несомненно, своеобразный итог жизненного и творческого пути писательницы.
Трилогия Пуймановой не только принадлежит к вершинным достижениям чешского романа, она прочно вошла в фонд социалистической классики.
Иллюстрации П. ПинкисевичаВнимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Гамза многое знал о концентрационных лагерях от беглецов из фашистской Германии, после тридцать третьего года нахлынувших в Чехословакию, и из выступлений немцев-антифашистов в печати. И как всякий, кто должен столкнуться с чем-нибудь, о чем слышал и читал, Гамза представлял себе все в высшей степени страшным. Он был готов к тому, что немедленно столкнется с публичными истязаниями, со стонами и убийствами, и заранее собирал все душевные силы, чтобы устоять перед ожидающими его ужасами. Но разница между слышанным и тем, что переживаешь сам, безмерна. Гамза думал, что увидит обезображенные трупы, но не ждал такого.
У строящегося здания стояла повозка, нагруженная большими тюками прессованного сена, в повозку было впряжено несколько пар людей в полосатой одежде, на козлах сидел возчик с бичом. Он взмахнул им, дернул вожжи, причмокнул, подгоняя упряжку, люди поднатужились — и повозка тронулась с места. Никто из остальных хефтлингов [9] не обратил на это никакого внимания. Их это не удивило. Они продолжали копать землю. Мимо ехала обыкновенная фура с кладью, вместо лошадей ее везли люди, а такой же, как и они, человек сидел на козлах и лихо щелках бичом. Чувство человеческого достоинства у Гамзы было развито сильнее, чем сострадание; он сгорал от унижения за этих запряженных людей. А возчик смеялся, что-то покрикивал гортанным голосом и хлестал «лошадок»; они наклонили бритые головы, согнули полосатые спины и бежали рысью, пошатываясь на тонких ногах, обутых в деревянные башмаки. Так, будто нарочно, воз проехал мимо Гамзы, как видение, как образ жизни, поставленной вверх ногами, как аллегорическая колесница фашизма.
Много, много позднее Гамза шел утром из блока на аппель [10] и заметил на колючей проволоке скорченного человека, который, сойдя с ума, прыгнул на нее. Его убило током, и для него все кончилось. Много, много позднее Гамза вынужден был стоять на аппельплаце [11] в очереди — смотреть расстрелянного. Он должен был, согласно приказу, стать к нему лицом и внимательно изучать его — для острастки; иначе Гамзе пришлось бы шагнуть назад, в очередь, простоять несколько часов и снова подойти и посмотреть. Но ни один убитый в лагере не потряс Гамзу так, как в первый день эти живые люди, запряженные в повозку с кучером на козлах…
— Что там такое? Нечего глазеть по сторонам, погляди лучше на меня, — произнес чей-то шутливо-настойчивый голос. — Я ведь покрасивей, верно?
Это сказал человек, копавший землю рядом. Гамза быстро оглядел его с головы до ног. На него смотрело простоватое лицо с плутовской улыбкой. Оно улыбалось Гамзе всеми морщинками.
— Ну, работай, не стой, Ганс смотрит. Надоест ему глядеть, тогда и отдохнешь. Чем меньше будешь здесь замечать, тем лучше для тебя. Понятно? Моя хата с краю — ничего не знаю. Ты здесь недавно, да?
— Прибыл в среду с транспортом.
— Оно и видно. Шить тут можно. Человек ко всему привыкает.
У него тоже был красный треугольник политического.
— К этому мы не имеем права привыкать, — строго заметил Гамза.
— Иди ты, дед-всезнайка! Я вовсе этого не думаю. У кого душа стойкая, того с толку не собьешь. Держи лопату пониже. Так надорвешься.
Копая землю, Гамза с непривычки очень утомился. Тяжелый инструмент не слушался, руки стали какими-то чужими. Он стеснялся своей неловкости перед человеком, одинаково хорошо владевшим и мотыгой и киркой. Обращение «дед» тоже немного удивило Гамзу. Неужели он так постарел за три месяца тюрьмы? Несмотря на выбитые при допросе зубы, несмотря на голодный паек, который способствует тому, что ты иной раз скорее мечтаешь, чем связно мыслишь, Гамза чувствовал, что он молод, непримирим и вместе с товарищами готов к борьбе в ожидании лучших дней. У Димитрова все кончилось замечательно, и со мной все будет хорошо. И в лагере Гамзе посчастливилось, потому что он в первый же день попал в одну команду с таким веселым, спокойным и опытным парнем, как Штепка.
— Вольно, ребята, — сказал Штепка, — Ганс отправляется в трактир. — Он проводил глазами невысокого, но коренастого капо с зеленым треугольником уголовника. — У него там в будочке для инструмента — фляжка со шнапсом. Отдохни, дед, и ты, долговязый, тоже. Хватит пока, поработайте с прохладцей, для виду.
— А что такое мы роем? — спросил долговязый человек с унылым лошадиным лицом, сосед Гамзы с другой стороны, тоже новичок. Он помолчал немножко, но не вытерпел. — Большая могила? — неуверенно снова спросил он, растерянно улыбаясь, как будто чувствовал, что его высмеют, и как бы втайне надеясь на эту насмешку.
— Эх ты, голова! Это же садик для господина крупнфира [12], — ответил Штепка, произнося чужое слово так, будто оно происходит от слова «крупный». — Ты знаешь, что он начальство над Гитлей? [13] Потому что Гитля — просто фира [14], а Штамниц — крупнфира.
Долговязый боязливо посмотрел вокруг водянистыми голубыми глазами.
— Такие глупые шутки могут стоить нам жизни, — хмуро произнес он и торопливо ухватился за мотыгу.
— Я ничего и не сказал, — злил его Штепка, — говорю, что есть. Копал я на шоссе у Казмара, теперь копаю в садике господина фон Штамница.
— Позвольте, приятель, это все-таки не одно и то же, — раздосадованно перебил долговязый, — Казмар был все-таки чех!
— Один черт! — отрезал Штепка и схватил лопату. — Но «Эс комт дртаг» — придет день. Нажми-ка, ребята, Ганс идет из трактира.
«Вот как? Он работал у Казмара»? — сказал себе Гамза. А какие хмурые, темные люди жили там когда-то, каждый сам по себе. Не зря партия поработала среди улечан. Как удивительно, что давным-давно, в том беспредельном вчера — на воле, — в то время Гамза еще мог, как вельможа, сесть на «двойку» и доехать до самой Карловой площади, — именно когда в суде у него был казмаровский день, Гамзу арестовали. Чем этот Штепка напоминает ему Тоника? Обоим около тридцати. Да. Но в остальном они не похожи — ни внешне, ни внутренне. Тоник был потише, в его мягком обращении с людьми был оттенок задумчивости, он редко шутил, а Штепка — беспрестанно. Но они оба создавали вокруг себя атмосферу ясного, действенного, надежного дружелюбия, которое поддерживает человека, когда он делает первые шаги по неизведанной земле, и поднимает его дух.
У Штепки, как у ребенка, была счастливая особенность: он отстранял от себя тяжелые впечатления, которые понапрасну грязнят воображение и сокрушают сердце, и старался уберечь от них и других людей. Он инстинктивно оберегал свое душевное здоровье и даже на гнусный лагерь смотрел чистыми глазами, потому что ни на миг не сомневался, что выберется отсюда и что уж тогда-то жить на свете будет лучше. Счастливый характер и политическая сознательность встретились и тесно переплелись в нем; веселый человек — наилучший социалист. И Штепка уже намеренно развивал в себе этот врожденный дар и словно излучал вокруг хорошее настроение. Солнечный характер осушал болото уныния и истреблял бактерии страха.
Штепка был по-народному сметлив, практичен, он чутьем улавливал многое из того, на что интеллигент поначалу не обращал внимания и до чего додумывался значительно позже.
— Пригнись ты немножко, тебя, как Эйфелеву башню, со всех сторон видать, — поучал Штепка верзилу с унылым лошадиным лицом, преподавателя средней школы, которому всякий норовил дать зуботычину. — Здесь лучше быть маленьким, невзрачным, но и ходячим несчастьем выглядеть тоже ни к чему. Эдак ты сам напрашиваешься на затрещину, ведь ты их знаешь. Перестань думать об одном себе, вспомни лучше про жену, про детей, подумай, как это будет хорошо, когда ты вернешься к своим в республику.