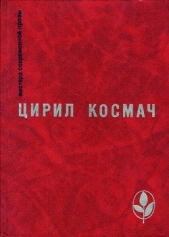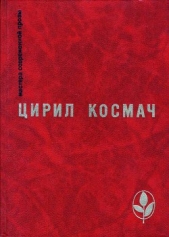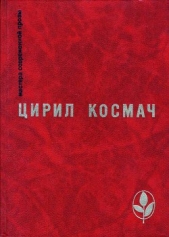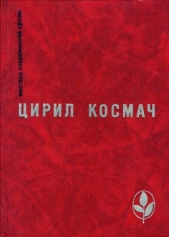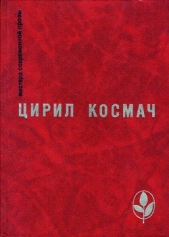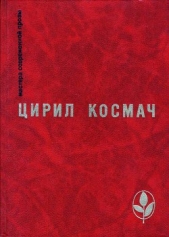Избранное
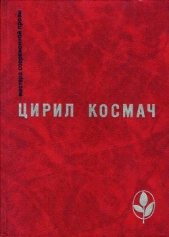
Избранное читать книгу онлайн
Цирил Космач — один из выдающихся прозаиков современной Югославии. Творчество писателя связано с судьбой его родины, Словении.
Роман «Весенний день» — своеобразная семейная хроника времен второй мировой войны, события этой тяжелой поры перемежаются воспоминаниями рассказчика. С «Балладой о трубе и облаке» советский читатель хорошо знаком. Этот роман — реквием и вместе с тем гимн человеческому благородству и самоотверженности простого крестьянина, отдавшего свою жизнь за правое дело. Повесть принадлежит к числу лучших произведений европейской литературы, посвященной памяти героев — борцов с фашизмом.
Новеллы Ц. Космача написаны то с горечью, то с юмором, но всегда с любовью и с верой в творческое начало народа — неиссякаемый источник добра и красоты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И что же я увидел?
Я увидел самого себя сидящим на вершине мира, на каменной стене возле сосновой рощи над Пираном. Не было больше ночи, но не было и дня. Лунный свет был бледен и призрачен, все в нем казалось сделанным изо льда. Дрожь охватила меня, и я замер недвижимо, ибо воистину все кругом было ледяное. Ледяными были дома, ледяным — море, ледяными — кипарисы и белые камни, ледяными были деревья, а листва была настолько ледяной, будто она превратилась в лед тысячу с лишним лет назад. И я видел не только знакомую мне местность, я видел весь земной шар, и он целиком был оледеневшим и мертвым. Ледяными пустынями были и те четыре мои долины, куда ушли когда-то четверо милых мне несчастных людей. Все было мертво. Да и ветер давно умер, вовсе умер, умер до последнего дуновения. На мертвом небе покойно лежало только одно облако, длинное и узкое, будто ледяная сосулька. И я знал, что это не облако, но последний протяжный стон человека, превратившегося в лед. Низко под ним висела луна. Она висела за острым шпилем ледяной верхушки старого собора, разрубленная на две части. Такою она светила теперь над землей, этой опустевшей ярмаркой человечества. Я был один, хотя, собственно, меня тоже больше не было. Блуждал лишь мой испуганный взгляд, также оледеневший за тысячу с лишним лет до этого. И…
Довольно! Невыносимая стужа пронзила меня. Я вскочил, и вдруг в этот самый момент небо ожило и вниз покатилась звезда. Я ликовал, будто на землю вернулась жизнь. Но лишь на мгновение. Тут же мелькнула мысль, что это не просто блуждающее во Вселенной небесное тело. И поскольку я еще такой младенец, что при падении звезды загадываю желание, напуганная и старомодная душа моя громко прошептала:
— Пусть в самом деле это будет упавшей звездой!..
Медленно уходил я из сосновой рощи, по-солдатски приветствовал старого искалеченного воина и спустился на дорогу. Оттуда я посмотрел на кладбище. Надпись над входом сверкнула серебром, словно желая ободряюще мне улыбнуться.
— Resurrecturis! — благодарно кивнул я ей головой.
— Resurrecturis! — сверкнуло серебро мне в ответ.
Я помахал рукой и повернул к дому. И вновь я был полон плодоносной грусти и обильной плодами печали. Я шагал по дороге и раскачивался из стороны в сторону, потому что был всем: сыном своей матери и одноухим горемыкой пиратом с черной нашлепкой на глазу, старым орлом и осиротевшей каруселью, разрубленной надвое луной и кладбищенским кипарисом, эхом своего собственного голоса и протяжным оледеневшим стоном, звеневшим в мертвенной тишине; я был Лукою и Русепатацисом, Ровной Дубинкой и Тантадруем. Было нелегко, но я нес это бремя с неосознанной радостью, потому что был также и стаей светло-сизых голубей, которые непрерывной серебряной лентой летели сквозь мою душу. Все шумело вокруг меня и надо мною, и откровенно признаюсь, хотя это могло бы навредить солидной, серьезной литературе, что иногда я подпрыгивал, как Тантадруй. Да почему бы и не подпрыгнуть? Ведь это его песенку я тихонько напевал:
КУЗНЕЦ И ДЬЯВОЛ
© Перевод А. Романенко
Кузнеца нашего при рождении нарекли Михаилом, что для коваля является именем вполне подходящим, однако все звали его Фомой, поскольку верил он лишь тому, на что мог взглянуть собственными глазами и что мог потрогать собственными руками. Пока он был ребенком, это считали дурной и вредной привычкой, с которой нужно бороться внушениями и палками, позже, когда созрела его необычайная физическая сила, признали, что, пожалуй, это, скорее, достоинство и подлинно мужское качество. Такой перемене не следует удивляться, ибо кузнец Фома был не просто силен, как подобает и следует кузнецу, но даже еще сильнее, так силен, что, по всеобщему признанию, ему далеко вокруг не находилось равных.
О том, как он куролесил в юности, мы сейчас вспоминать не будем. Достаточно сказать, что славу свою, несомненную и незыблемую, он приобрел, когда ему еще не было тридцати. А когда и самые последние его соперники своими переломанными ребрами да разбитыми головами подтвердили, что воистину не найти ему равного, он потянулся так, что захрустели все его косточки, и с сожалением воскликнул:
— Жалко, дьявола не существует! Будь он на белом свете, я б его хорошо отделал — ни одной шерстинки целой не осталось бы!
Слова эти по тем временам звучали довольно дерзко, и старики с укоризной ему возразили:
— Не искушай дьявола, Фома!
— А почему бы нет?
— А потому, что вполне может быть, он и существует.
— Нету его! — решительно возразил кузнец.
— Коли нету, так чего ж ты его призываешь?
— Верно! — согласился кузнец, уважавший, несмотря на свое упрямство, доводы разума.
— Вот видишь!.. И наверное, тебе самому не худо бы свою силу по-иному расходовать.
— И это правда! — серьезно признал кузнец.
А признавши, остался верен своему слову. Решил силу свою отныне в самом деле использовать разумнее и полезнее. Открыл кузницу, женился на Челаревой Юлке, которая талией такова была, что и самому кузнецу нашлось что принять в свои могучие руки, и с искренней радостью взялся творить детей и выделывать инструмент для крестьян. Все у него выходило как игрушка, и все было здоровым и складным, как и подобает у такого силача. Дети рождались крепкие да удалые, точно сказочные богатыри, а лучший и более приятный для глаза инструмент надо было еще поискать.
Жил он, следовательно, разумно, счастливо и достойно. Целую неделю с утра до вечера без перерыва крутился в своей черной, прокопченной кузне, точно дьявол в адском пекле, и сам был черным от копоти. А по воскресеньям, которые он чтил, хотя и считал себя не «кларикалом», а «лабиралом», как сам гордо подчеркивал, устраивал день отдыха. Однако тело его к отдыху не привыкло, воскресенья тянулись бесконечно, сумерки были полны воспоминаний, и кузнеца иногда одолевали искушения. По утрам он исполнял все, что требовалось по дому, затем отправлялся к церкви под липу и там поджидал мужчин, чтоб потолковать о том о сем. Отобедав, играл с детьми, а потом и с женой и после этого не мог больше усидеть дома. Он шел по холмам, открывавшимся перед ним, и жадно смотрел, как сгребают сено и носят снопы на сушку, подходил к работавшим и вместе с ними принимался за дело. Когда смеркалось, беспокойные ноги вели его в трактир, и там он таскал пузатые бочки и шутя поднимал по три стола разом. А когда наступала ночь и пора было угомониться, он от скуки тянул рюмку за рюмкой. И чем больше он выпивал, тем больше нерастраченных сил пробуждалось в нем. Кузнец беспокойно пересаживался с места на место, потирал могучие руки и выглядывал, не найдется ли где им применения. Но искал он напрасно, потому что парни избегали ему показываться. И тогда он не выдерживал. Потягивался, так, что хрустели все его косточки, и кричал:
— Жалко, дьявола не существует! Будь он на белом свете, я б его хорошо отделал — ни одной шерстинки целой не осталось бы!
Люди смеялись этой его старой шутке. Только Арнац, благочестивый бобыль, гнусаво пищал из-за печки:
— Погоди, кузнец, увидишь! Дьявол свое возьмет!
— Как это возьмет, коли нет его? — небрежно возражал кузнец.
— Есть! — гнусил Арнац.
— А если есть, пускай приходит!
— Придет, не беспокойся!
— Как же он придет, если его нету? — гремел кузнец.
— Есть!
— Нету! — Кузнец стучал по столу кулаком, и стаканы подпрыгивали и падали на пол.