Избранное
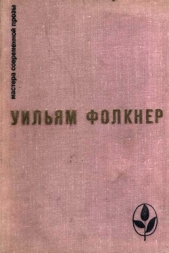
Избранное читать книгу онлайн
В книгу вошли повесть «Медведь» - казалось бы, ну что можно вместить значительного и стоящего в коротенькую лесную повесть? А вот ведь поместилась и целая жизнь нескольких живых существ — в основном людей, но ещё и одной собачьей Личности, и плюсом к ним судьба Медведя с собственным именем, по заслугам данным ему матёрыми охотниками. И масса описаний природы тех североамериканских диких лесных мест...
«Осквернитель праха» — своеобразный детектив, в котором белый подросток спасает негра, ложно обвиненного в убийстве.
В романе «Сарторис» раскрывается трагедия молодого поколения южан, которые оказываются жертвами противоборства между красивой легендой прошлого и и реальностью современной им жизни. Выросшие под обаянием рассказов о героическом прошлом своих семейств, они оказываются беспомощными, когда сталкиваются лицом к лицу с действительностью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но по крайней мере он хоть не засыпает. Это как-никак сделал кофе. Ему все еще хотелось спать, но теперь он уже не мог. Желание осталось, но теперь было еще и возбуждение, с которым надо было бороться, подавлять его. Сейчас было уже больше восьми. Один из загородных школьных автобусов проехал мимо, когда он приготовился отъехать от дома на пикапе мисс Хэбершем, и на улице, наверно, полно детей, особенно оживленных с утра в понедельник, с книжками и бумажными мешочками с едой, чтобы позавтракать в перемену, а за автобусом ехала вереница машин и грузовиков, облепленных деревенской грязью, покрытых пылью, и такая непрерывная и тесная, что дядя с мамой уже успеют до тюрьмы доехать, прежде чем ему удастся влиться в нее, потому что в понедельник — скотные торги в торговых дворах позади Площади, и он представил себе эти скопища пустых машин и грузовиков вдоль всего тротуара у суда, сгрудившихся тесными рядами, как свиньи у кормушки, и торговцев скотом с толстыми палками, которые, даже не останавливаясь, идут прямо через Площадь в проход к торговым дворам и, жуя табак или незажженную сигару, ходят из загона в загон среди аммиачной вони, навоза, и смазки, и рева телят, и топанья и фырканья лошадей и мулов, и среди подержанных машинных и плужных частей, оружия, сбруи, часов, и только жены (те немногие, что приезжали, поскольку день торгов — это не суббота, а мужской день) толкутся возле Площади по лавкам, а на самой Площади пусто, если не считать машин и грузовиков, и так будет до полудня, когда мужчины придут на часок с торгов, чтобы встретиться с женами в ресторанах или кафе.
Тут он с усилием — теперь это уже был не рефлекс — оторвался не от сна, а от видений, его гипнотический транс продолжался даже и на улице при ярком дневном солнечном свете, и сейчас, когда он ехал в пикапе, который до вчерашнего вечера он и не отличил бы от других, но который с тех пор, с того вечера стал такой же неотъемлемой частью его памяти, его переживаний, его дыхания, каким навсегда останется свистящий шорох заступа, врезающегося в рыхлую землю, или скрип железной лопаты по сосновой крышке; двигаясь в каком-то мираже полнейшей пустоты, в которой не просто не было вчерашнего вечера, но не было даже и субботы, он вдруг спохватился, как если бы только сейчас увидел, что ведь в школьном автобусе не было детей, а только взрослые, и в потоке машин и грузовиков, следующих за автобусом, а теперь, когда ему наконец удалось влиться в этот поток, — и за ним (в некоторых из них даже и в понедельник, в день торгов, должны были бы сидеть негры, а в субботу половина открытых грузовиков бывала битком набита черными мужчинами, женщинами, детьми в плохоньких дешевых нарядах, в которых они ездили в город) не было ни одного черного лица. И на улице ни одного школьника, идущего в школу, хотя он, не слушая, слышал, как дядя говорил по телефону с директором, тот спрашивал его, можно ли сегодня детям в школу, и дядя сказал: «Да», и вот уже, подъезжая к Площади, он увидел еще три желтых автобуса, предназначенных для того, чтобы возить в школу детей из округа, но хозяева этих автобусов, они же подрядчики и шоферы, использовали их по субботам и в праздники как платный пассажирский транспорт; а вот и Площадь, стоянки машин, грузовиков — все как всегда, но на самой Площади не как всегда, не безлюдно; мужчины не валят толпой к торговым рядам, а женщины в лавки, так что, когда он подъехал к стоянке и остановил пикап позади дядиной машины, он уже увидел то незримое, бессмысленное, глухое брожение, прерывистый учащенный пульс и гул толпы, заполнившей Площадь, и — как на карнавальном шествии или футбольном матче — выплеснувшейся на улицу, и скучившейся на тротуарах напротив тюрьмы, и хлынувшей туда, дальше, мимо кузницы, где он стоял вчера, стараясь быть незаметным, как если бы все собрались здесь смотреть на торжественный парад (и почти посреди мостовой, так что машины и грузовики, все еще двигавшиеся непрерывным потоком, вынуждены были объезжать ее, стояла кучка человек в двенадцать, словно группа лиц, принимающая парад, и в самом центре ее он узнал форменную фуражку со значком городского полисмена, который в этот день и в этот час должен был бы стоять перед школой и регулировать уличное движение, чтобы дети могли спокойно переходить улицу, и ему даже не пришлось напрягать память, оно само вспомнилось, что фамилия полисмена Инграм, этот Инграм с Четвертого участка ушел в город подобно некоторым другим отступникам клана Четвертого участка, которые уходили в город, и женились на городских девушках, и становились парикмахерами, приставами и ночными сторожами, — так маленькие немецкие князьки покидали свои Бранденбургские холмы, чтобы вступить в брак с наследницами европейских тронов), мужчины, женщины и ни одного ребенка, обветренные деревенские лица, загорелые шеи, руки и яркие ситцевые платья, сплошная толкучка на Площади и на улице, как если бы и лавки сегодня были закрыты, заперты, и они даже не глядят на голый фасад тюрьмы с единственным заделанным решеткой окном, которое пустует и безмолвствует вот уже двое суток, а просто толкутся, теснятся — не в ожидании, не в предвкушении и даже без особой настороженности, а просто пока еще в той предварительной стадии оседания по местам, как перед поднятием занавеса в театре, и он подумал: вот это что — праздник; обычно — день развлечения для детей, ну а здесь наоборот; и тут он вдруг понял, что он все представлял себе совсем не так: нет, это не субботы не было, а только вчерашнего вечера, который для них еще и не наступил, — ведь они не только не знали про вчерашний вечер, но ни один человек, никто, даже сам Хэмптон, не мог им о нем рассказать, потому что они не поверили бы ему, и тут словно какая-то завеса или перепонка вроде как на глазах у кур — а он даже и не подозревал, что она у него есть, — спала с его глаз, и он всех их увидел впервые, те же обветренные и все еще совсем не настороженные лица, те же выцветшие чистые рубахи, и брюки, и платья, но не толпа, ждущая поднятия занавеса над театральным вымыслом, а, скорее, толпа, собравшаяся в зале суда, которая ждет, когда судебный пристав провозгласит: «Внимание! Внимание! Внимание! Суд идет!» — она даже не выражает нетерпения, потому что еще не настало время судить не Лукаса Бичема — его они уже осудили, — но Четвертый участок; они пришли сюда не смотреть, как вершат то, что они называют правосудием, или как воздают должную кару, а убедиться, что Четвертый участок не уронит своего престижа белого человека.
Итак, он остановил пикап, вылез и уже бросился бегом, но тут же одернул себя отчасти из чувства гордости или собственного достоинства при воспоминании о вчерашнем вечере, когда он затеял и даже в некотором роде возглавил или, во всяком случае, помог выполнить это дело, важности которого, уж не говоря насущности, не понял никто из ответственных взрослых, но отчасти и из осторожности, припомнив, как дядя говорил, что подстегнуть к действию толпу ровно ничего не стоит, достаточно какого-нибудь пустяка; а что, если для них достаточно увидеть подростка, бегущего к тюрьме, — и он снова представил себе бесчисленную массу лиц, удивительно схожих отсутствием всякой индивидуальности, полнейшим отсутствием своего «я», ставшего «Мы», ничуть не нетерпеливых даже, не склонных спешить, чуть ли не парадных в полном забвении собственной своей страшной силы, — даже сотня бегущих детей не заставит их сдвинуться с места; но вот миг — и все перевернулось: ни замедлить, ни отступить не заставит их не какая-то там сотня, а во сто раз больше бегущих детей; и как тогда, когда он чувствовал полную безнадежность того, что было еще только в замысле, и потом физическую неосуществимость, когда они решились привести это в исполнение, так сейчас он понял, насколько чудовищно то, во что он слепо вмешался, и как правильно было его первое инстинктивное побуждение — бежать домой, взнуздать и оседлать лошадь и мчаться без оглядки до тех пор, пока не свалишься в изнеможении, и заснуть, и потом вернуться, когда уже все кончится (а теперь — теперь ему казалось, что это он вытащил на белый свет нечто гнусное и постыдное, присущее всему белому роду, основателю края, и ему тоже, ибо он плоть от плоти его, а не сделай он этого, оно могло бы просто вспыхнуть, взметнуться пламенем из Четвертого участка и снова скрыться во тьме или хотя бы сгинуть незримо вместе с угасшим пеплом распятого Лукаса).























