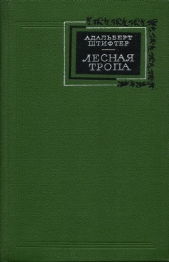Бабье лето
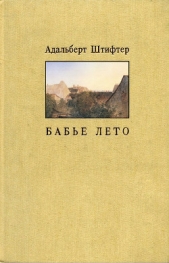
Бабье лето читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда мы собрались за ужином, мать Матильды спросила меня:
— Почему вы сегодня, вернувшись из сада с детьми, не зашли ко мне?
Я не нашелся с ответом, но этого и не заметили.
Всю ночь я почти не спал. Я с радостью ждал утра, когда снова увижу ее. Мы все встретились в столовой за завтраком. Взгляд, легкий румянец всё говорили, они говорили, что мы принадлежим друг другу и это знаем. Все утро я усердно занимался с Альфредом. В полдень, когда трава и листья подсохли, мы вышли в сад. С книжкой, которую она как раз читала, Матильда вылетела из дому, бросилась к нам, и мы обменялись взглядами, в которых выразилось наше единение. Она проникновенно посмотрела на меня, и я почувствовал, как льется мое волнение из моих глаз. Мы прошли через сад и огород к увитому виноградом проходу. Мы словно бы сговорились пройти туда, Матильда и я говорили обыкновенные вещи, и в обыкновенных вещах был понятный нам смысл. Она дала мне виноградный листок, и я спрятал его у своего сердца. Я протянул ей цветок, и она приколола его к своей груди. Я вынул полоску бумаги, которой была заложена ее книжка, и оставил ее у себя. Она хотела завладеть ею, но я не отдал, она улыбнулась и оставила ее мне. Мы вошли в орешник, пересекли его и вышли к розам беседки. Она взяла несколько увядших листков и вытерла ими ветку. Я сделал то же самое с соседней веткой. Она дала мне зеленый листок розы, и я сломал тонкую веточку, что, собственно, не разрешалось, и подал ей. Она на миг отвернулась, а когда обернулась к нам снова, веточка была уже где-то спрятана у нее. Мы вошли в беседку, она стала у стола, опершись на него руками. Я тоже положил свою руку на стол, и через несколько мгновений наши пальцы встретились. Она была как пламя, и вся моя душа трепетала. Прошлым летом я часто подавал ей руку, чтобы помочь перейти трудное место, дать опору на зыбком мостке или провести ее по узкой тропке. Теперь мы боялись подавать друг другу руки, и всякое соприкосновение оказывало величайшее действие. Невозможно сказать, как это получается, что перед каким-то одним сердцем исчезают небо, звезды, солнце, вселенная, притом перед сердцем девочки, которая еще совсем ребенок. Но она была как стебель какой-то небесной лилии, волшебная, милая, непостижимая.
Мы снова вернулись в дом, и прежде, чем нас позвали обедать, мы пошли к матери. При матери мы были молчаливее и немногословнее, чем обычно. Матильда снова нашла полоску бумаги и заложила ею то место книги, откуда я вынул ее закладку. Затем она села за фортепиано и извлекла несколько звуков. Альфред рассказал матери, что мы делали в саду, сообщил, что мы сняли засохшие листья с привязанных к жердям беседки веток. Затем нас позвали обедать. Во второй половине дня прогулки не было. Родители не пошли гулять, и я не предложил этого Альфреду и Матильде. Я взял книгу одного своего любимого поэта, читал ее очень долго, и жаркие слезы часто выступали у меня на глазах. Позднее я сидел на скамейке в кустах сирени, поглядывая через ветки на комнаты Матильды. Там иногда подходила к окну эта прекрасная, как ангел, девушка. Под вечер Матильда играла в комнате матери на пианино — очень строго, донельзя волнующе и прекрасно. Затем она взяла цитру и играла на ней. Звуки так взволновали ее, что она не могла остановиться. Она все играла, и звуки становились все трогательнее, а их связь все естественнее. Мать очень хвалила ее. Отец, ездивший по делу в ближайший городок, наконец тоже пришел в комнату матери, и мы оставались в ней, пока нас не позвали ужинать. Отец взял Матильду под руку и нежно провел ее в столовую.
Началась необыкновенная пора. В моей жизни и в жизни Матильды наступил перелом. Мы не сговаривались таить наши чувства, однако мы их таили, утаивали от отца, от матери, от Альфреда и от всех прочих. Мы извещали о них друг друга только непроизвольными знаками, только словами, понятными лишь нам обоим и приходившими нам на уста как бы сами собой. Находились тысячи нитей, по которым наши души устремлялись друг к другу, и когда мы овладевали этими нитями, появлялись все новые и новые тысячи. Ветерки, травы, поздние цветы осеннего луга, плоды, крики птиц, слова книги, звуки струн, даже молчание были нашими вестниками. И чем глубже приходилось мне прятать свое чувство, тем огромнее оно становилось, чем жарче горело в душе. На прогулки мы, Матильда, Альфред и я, ходили теперь реже, чем прежде, мы, казалось, робели от волнения. Мать часто надевала летнюю шляпу и приглашала пройтись. Это бывало большое, несказанное счастье. Мир расплывался перед глазами, мы шли бок о бок, наши души соединялись, нам улыбались небо, облака, горы, мы слышали наши речи, а когда не говорили, слышали наши шаги, а когда и этого не было, когда мы стояли молча, мы знали, что обладали друг другом, и обладание это было безмерно, а когда мы приходили домой, оно, казалось, умножалось еще невыразимее. Когда мы бывали в доме, передавалась какая-нибудь книга, где были описаны наши чувства, и другой их узнавал, или выискивались красноречивые музыкальные звуки, или же ставились на окна букеты цветов, подобранные так, чтобы они говорили о нашем прошлом, таком коротком и все же таком уже долгом. Когда мы ходили по саду, когда Альфред убегал за куст, забегал вперед в увитом виноградом проходе или раньше выбегал из орешника, когда он оставлял нас одних в беседке, мы могли дотронуться друг до друга пальцами, подать друг другу руки, прижаться на миг сердцем к сердцу или жаркими губами к губам и пролепетать:
— Матильда, я твой навсегда, навеки, только твой!
— О, навеки, навеки, Густав, твоя, только твоя, только твоя.
Эти мгновения были самые блаженные.
Так наступила глубокая осень. В конце лета мы внешней жизни не замечали. Матильде и Альфреду все меньше хотелось разъезжать по соседям, да и родители ездили меньше, и посторонние навещали нас реже. Если же они все-таки приезжали, Альфред, правда, участвовал в детских играх и увеселениях, а Матильда была безучастнее, чем когда-либо. Она держалась особняком, словно ее место не здесь. В ее внешности за это короткое время тоже произошло большое изменение: она стала сильнее, ее щеки — алее, глаза ее блестели ярче. Альфред очень меня любил. Кроме сестры и родителей, он, может быть, никого не любил, как меня, и я искренне платил ему тем же.
Поздняя осень сменилась наконец началом зимы. Если мы рано выезжали из города в деревню, то и оставались в ней чуть ли не до конца года. Ожидания Альфреда сбылись. Плоды и виноград были собраны. На ветках деревьев не осталось ни листика, и по долине поплыли туманы, начались заморозки. Мы переехали в город. Там свобода Матильды была ограниченней. Ее осаждали учителя, уроки хороших манер, учение, задания, но вся ее натура стала вдохновеннее и глубже, а я казался себе богатым, гораздо богаче, чем владельцы всех этих домов, дворцов, всего этого блеска огромного города. Говорить нам случалось лишь изредка, но когда мы встречались в коридоре, когда ей удавалось сказать мне несколько слов в комнате матери, когда судьба нас случайно сводила в толпе или выдавался другой счастливый миг, тогда ее прекрасные глаза, тогда какие-нибудь несколько слов говорили мне, как сильно мы любим друг друга, как неизменна эта любовь и как владеют друг другом наши сердца. Она была замечена теперь и другими, и молодые люди не отрывали от нее глаз. Но когда ее привечали и выражали ей свое поклонение, когда ее чествовали в какой-нибудь семье, она относилась к таким вещам совершенно спокойно, никак не отзывалась на них и вся ее ангельская прелесть говорила мне — и понимал это только я, — что вся ее чудесная внешность, все тепло ее души, весь блеск ее расцвета — только мое счастье и что блаженство ее в том и состоит, чтобы делать меня счастливым. Часто, возвращаясь из дальних походов в город, я останавливался перед домом, где мы жили, и рассматривал его. Он был замечателен, он превосходил все дома города, и я с волнением глядел на стены, в которых жило существо, спустившееся с надземных высот, чтобы заполнить мою душу. Матильда видела мое обожествление, она видела его на тех же тайных путях, на каких я угадывал ее любовь, и на челе ее светилась радость, которая тоже видна была только мне. Родители Матильды начали одевать ее в лучшие, чем прежде, платья, и когда она стояла передо мной в благородных одеждах, она казалась мне более далекой и более близкой, более чужой и более родной, чем когда-либо.