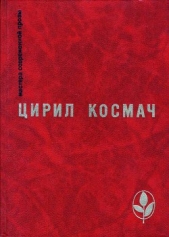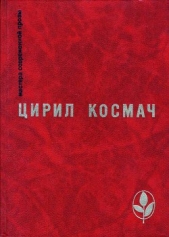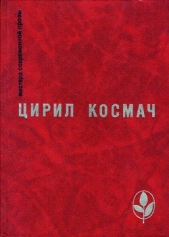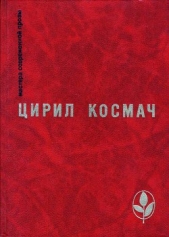Весенний день
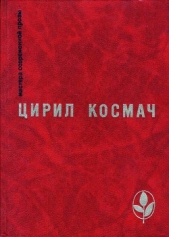
Весенний день читать книгу онлайн
Цирил Космач (1910–1980) — один из выдающихся прозаиков современной Югославии. Творчество писателя связано с судьбой его родины, Словении.
Роман «Весенний день» — своеобразная семейная хроника времен второй мировой войны, события этой тяжелой поры перемежаются воспоминаниями рассказчика.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Незаметно проскользнув под обрывом, малый ныряет в ольховые заросли. Пробравшись между тесно стоящими тонкими стволами, он останавливается на поляне. В Сухом болоте изо всей мочи надрываются лягушки, только он их не слышит. Затаив дыхание, он смотрит на скалистый Вранек и ждет, чтобы от темной крутой горы долетел до него вздох ночи. Когда это происходит, сердце сжимается от томительной, сладкой боли. Земля начинает колебаться под ногами, Вранек, стронувшись с места, приближается к нему, ширится и растет, и его двурогая вершина движется по звездному небу все быстрей и быстрей. А он глядит не шелохнувшись и ждет… ждет… пока не заломит в висках. Тогда он из последних сил поводит головой, Вранек замирает, земля под ногами вновь тверда и неподвижна. Тотчас становятся слышны кваканье и урчанье в Сухом болоте, и шелест ночного ветерка в колосьях пшеничного поля, и шум Идрийцы, доносящийся из-за ольшаника. Малый движением головы откидывает мягкие волосы со лба и трогается дальше по тропинке, но, сделав несколько шагов, сворачивает в высокую траву. И хоть знает, что это грех, предается странному наслаждению: он шагает, шагает и шагает по высокой траве, так что в ботинки натекает роса, а штаны отсыревают до самых колен… Что за непонятная, инстинктивная страсть движет им? Когда он, усталый, выбирается на проселок, ему становится стыдно того, что он делает, и кровь бросается в лицо. Но стыд исчезает так же быстро, как и румянец; стыд, в сущности, только будит и оживляет инстинктивное желание.
Вот и сегодня его тянет выйти из дома! Идти или нет? Мама, наверно, задремала… Ах, нет, нет! Мама обязательно его услышит и будет беспокоиться, дожидаясь его возвращения. И когда он вернется, мама черенком метлы легонько постучит в потолок, зовя его к себе, как звала каждый раз, когда он украдкой выбирался ночью из дома. Он спустится к ней и будет покаянно стоять перед старинной кроватью из орехового дерева с высокими резными спинками. На этой кровати лежит мать. Одеяло покрывает ее ровно, будто она уже стала бестелесной. Видны только ее длинные руки, устало лежащие на темно-красной ткани одеяла. Он увидит их, как только переступит порог. Эти руки белы, тонки и прозрачны, несмотря на красноватый свет в комнате. А может быть, как раз из-за этого света — слабого огонька маленькой керосиновой лампы с красным стеклом. Его взгляд остановится на этих руках, и в горле защемит, будто он прочел на них отчетливо написанный смертный приговор. Мама ощутит на себе его взгляд и догадается о горькой мысли, которая родится у него при этом взгляде, а потом тотчас спрячет руки под одеяло.
— Где ты был? — раздастся ее голос, который хотел бы звучать светло и звонко, а на самом деле звучит темно и глухо.
Он вздрогнет и переведет взгляд на лицо матери, на ее голову, лежащую в высоких подушках. Мать постарается затаить свое тяжелое дыхание. Улыбнется как можно веселее, с оттенком прежнего лукавства:
— Где ты был, бродяжка ты мой непутевый!
— Нигде… На улице… — пробормочет он и понурит голову.
— О, вот как? — удивится она с деланной серьезностью. — Двадцать лет тут прожила, а в Нигде так ни разу и не побывала. Ну-ка, скажи, где оно?
Он поднимет голову и взглянет ей в лицо. Мама сожмет свои увядшие, бескровные губы, так что вокруг них обозначатся мелкие морщинки. Это она старается спрятать свою лукавую усмешку. Но полуприкрытые глаза, поблескивающие из-под тяжелых век, улыбаются. Это самое лучшее ее выражение, и оно напомнит ему о самых счастливых днях. В то же время он почувствует, что мать старается шуткой прогнать мысль о смерти. Она опять усмехнется и лукаво скажет:
— Судя по твоим брюкам, в этом Нигде чертовски высокая трава. И мокрая-мокрая!..
Он вздохнет и незаметно передвинется за спинку кровати, чтобы скрыть от ее взгляда мокрые штанины с налипшими на них лепестками полевых цветов. С маминого бледного лица сбежит усмешка. Она вглядится в него, вглядится так глубоко, что у него задрожат колени и он ухватится за спинку кровати. После долгой паузы мама проговорит со вздохом:
— О-хо-хо, бедный парень!.. И откуда ты такой взялся?.. И что только из тебя выйдет?.. Странный мальчик…
В ее голосе прозвучит что-то такое, чему невозможно противостоять, что-то неведомое, что-то вещее. Оттого эти слова каждый раз потрясают его. Он пошмыгает носом, а потом с едва сдерживаемым отчаянием пролепечет:
— Зачем ты так говоришь?.. Почему вы с отцом так беспокоитесь из-за меня?.. Почему вы все так чудно на меня глядите?..
— Сынок, что ты говоришь?.. Мы же тебя любим!
— Да! А почему вы меня любите так чудно?
Мама опять будет долго всматриваться в него странным взглядом — словно желая проникнуть в какую-то даль и там прочесть то, что скрыто от него. Громко пробьют стенные часы, одинокая ночная бабочка закружится вокруг слабого огонька лампы. Мама с трудом выпростает руку из-под одеяла и привернет фитиль. Потом скажет со спокойной покорностью:
— Чудно любим?.. Мы и правда любим тебя иначе, чем других детей… И наверно, даже больше, чем других… Но не потому, что ты заслуживаешь любви больше, чем другие, а потому, что ты в ней, должно быть, больше нуждаешься.
Эти слова он уже дважды слышал из уст матери. В первый раз он был тронут и сконфужен, во второй — задет, точно его, не говоря прямо, упрекнули в каком-то душевном изъяне, которого он сам никак не уразумеет. И если сейчас он услышит это в третий раз, будет до того худо, что впору забиться в какую-нибудь дыру и в одиночку сокрушаться над самим собой. Но на самом деле он не стронется с места, ибо совесть будет терзать его уже за одну мысль сбежать от матери. И надо будет как-то нарушить эту гнетущую тишину, которая отдавалась зловещим гулом, точно из отдаленного будущего неслись ему навстречу мутные волны еще неведомых невзгод и горя. И он снова шмыгнет носом и, заикаясь, скажет:
— Может, принести тебе что-нибудь?.. Может, подогреть кирпич?
— Нет, нет, — поспешно возразит мама. Опять улыбнется и даже пошевелится под одеялом. — Сегодня я себя хорошо чувствую. Правда, хорошо… А ты иди… И ложись… И засни, мальчик мой! Засни и не думай ни о чем!
— Я не буду.
— Обещаешь?
— Обещаю.
Он опустит голову и выйдет из комнаты. Тихонько прикроет за собой дверь, остановится за нею и жадно вдохнет свежий воздух. Потом оглядит просторную горницу, которая от лунного света стала словно еще просторнее. Все вещи, особенно старинная фисгармония, кажутся более темными, а потому выглядят мягче и приветливее, чем при свете дня. Они подобрели от ночного отдыха и незаметно дышат, точно кроткие ручные существа. Сквозь окна, выходящие на юг, лунный свет льется на белый яворовый стол, окруженный высокими стульями, светлый и ясный, словно еще бодрствует. Желтоватая белизна стола приветливо глянет на малого, так что он невольно засмотрится на нее, успокоенный и примиренный. Потом он удивленно покачает головой и на цыпочках отойдет от стола, а тот будет глядеть ему вслед белым прямоугольником, провожая его с немым сочувствием до двери, ведущей в сени. Малый отопрет ее, притворит за собой и остановится в полной темноте. И тут его снова охватит тишина с ее затаенным гулом. Сердце его сожмется, он нашарит ногой шаткую ступеньку и торопливо зашагает по лестнице, точно убегая от высоких мутных валов, которые с неудержимой силой все быстрей и бурливей катятся на него из будущего.
III
Да, бедный малый! Три года он проучился в начальном торговом училище. Но дальше дело не пошло — бедность накрепко заперла ему путь в Горицу. Это был такой тяжелый удар, что он без борьбы покорился своей судьбе, как покоряется арестант, приговоренный к пожизненному заключению. И жил он, как арестант: молча, старательно, но без всякого интереса выполнял положенную работу по дому и никуда не ходил. Хорошо еще, что он дома один, а дом стоит на отшибе, в получасе ходьбы от села, на левом берегу Идрийцы. Дороги тут не было, просто вдоль реки тянулся ухабистый проселок, на котором в иной день не показывалось ни души. Деревню малый возненавидел, так как был убежден, что там все только и делают, что судачат о нем. Он прямо-таки видел, как деревенские насмехаются над ним, а еще того пуще — над отцом. Вот, мол, так ему и надо, земли мало, а туда же — пыжится, посылает парня в училище. Теперь он ни крестьянин, ни барин, всю жизнь несчастным будет.