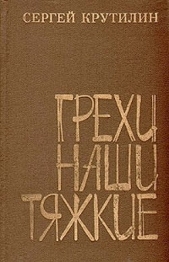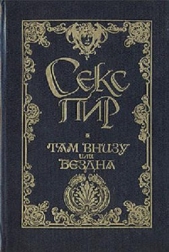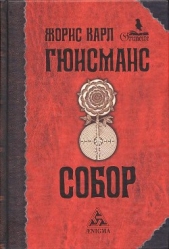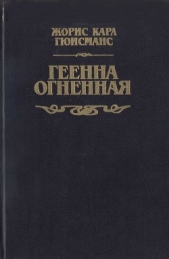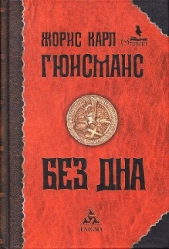На пути

На пути читать книгу онлайн
«Католичество остается осью западной истории… — писал Н. Бердяев. — Оно вынесло все испытания: и Возрождение, и Реформацию, и все еретические и сектантские движения, и все революции… Даже неверующие должны признать, что в этой исключительной силе католичества скрывается какая-то тайна, рационально необъяснимая». Приблизиться к этой тайне попытался французский писатель Ж. К. Гюисманс (1848–1907) во второй части своей знаменитой трилогии — романе «На пути» (1895). Книга, ставшая своеобразной эстетической апологией католицизма, относится к «религиозному» периоду в творчестве автора и является до известной степени произведением автобиографическим — впрочем, как и первая ее часть (роман «Без дна» — Энигма, 2006). В романе нашли отражение духовные искания писателя, разочаровавшегося в профанном оккультизме конца XIX в. и мучительно пытающегося обрести себя на стезе канонического католицизма. Однако и на этом, казалось бы, бесконечно далеком от прежнего, «сатанинского», пути воцерковления отчаявшийся герой убеждается, сколь глубока пропасть, разделяющая аскетическое, устремленное к небесам средневековое христианство и приспособившуюся к мирскому позитивизму и рационализму современную Римско-католическую Церковь с ее меркантильным, предавшим апостольские заветы клиром.
Художественная ткань романа весьма сложна: тут и экскурсы в историю монашеских орденов с их уставами и сложными иерархическими отношениями, и многочисленные скрытые и явные цитаты из трудов Отцов Церкви и средневековых хронистов, и размышления о католической литургике и религиозном символизме, и скрупулезный анализ церковной музыки, живописи и архитектуры. Представленная в романе широкая панорама христианской мистики и различных, часто противоречивых религиозных течений потребовала обстоятельной вступительной статьи и детальных комментариев, при составлении которых редакция решила не ограничиваться сухими лапидарными сведениями о тех или иных исторических лицах, а отдать предпочтение миниатюрным, подчас почти художественным агиографическим статьям. В приложении представлены фрагменты из работ св. Хуана де ла Крус, подчеркивающими мистический акцент романа.
«“На пути” — самая интересная книга Гюисманса… — отмечал Н. Бердяев. — Никто еще не проникал так в литургические красоты католичества, не истолковывал так готики. Одно это делает Гюисманса большим писателем».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Там, даже не молясь, Дюрталь чувствовал, как в него проникает жалостливое томление, неясная тревога. Сен-Северен его очаровывал, помогал, как никакой другой храм, внушить себе неизъяснимое впечатление радости и жалости, а иногда, в минуты размышлений о похабстве чувственности, даже выстлать душу раскаянием и страхом.
Он ходил туда часто — чаще всего по воскресеньям к десяти часам, к великой мессе.
Он садился за алтарем, в той изящной меланхолической апсиде, что, словно зимний сад, будто обсажена редкими диковатыми древесами. Она похожа на каменную колыбель, окруженную старыми-старыми деревьями, в цветах, но без листьев, — лесом квадратных или граненых колонн с аккуратными канавками у основания, по всей длине желобчатыми, как черешки ревеня, и перистыми, как сельдерей.
На вершинах этих стволов не раскидывалась крона: они переплетали на сводах свои обнаженные ветви, соединялись, дотягивались друг до друга и в точках соединения, в глазках прививки выпускали необыкновенные букеты геральдических роз, аристократических ажурных цветов. Вот уже четыреста лет, как сок в этих деревьях остановился и рост прекратился. Навек изогнутые цветоножки остались нетронутыми; белая кора колонн лишь чуть-чуть потрескалась, но большая часть цветов изветшала, геральдические лепестки поотламывались, от некоторых замковых камней остались только чаши слоистого камня, шероховатые, как птичьи гнезда, пористые, как губки, мятые, как порыжевшие кружева.
И среди всей этой мистической флоры, среди этих разметавшихся деревьев было одно, странное и прелестное, наводившее на фантастическую мысль: как будто сизый стелющийся дым благовоний сконцентрировался, свернулся, побледнев от времени, закрутился и из него получилась спираль этой колонны; она крутилась вокруг своей оси и наконец распускалась снопом переломанных стеблей, падавших от самого верха свода.
Тот угол, в котором хоронился Дюрталь, еле-еле освещался через стрельчатые витражи с черной ромбовидной сеткой — крохотными квадратиками, потемневшими от вековой пыли, еще вдобавок затененные стропилами капелл, доходившими до их середины.
Эта апсида была, так сказать, застывшим массивом деревянных скелетов, теплицей вымерших пород семейства пальмообразных, напоминавших какие-то невероятные фениксы, немыслимые латании; но помимо того, своей полумесячной формой, своим полумраком она приводила на память нос затонувшего корабля. К тому же через ее иллюминаторы с маленькими стеклышками в решетке черных свинцовых переплетов доносился приглушенный шорох, подобный шуму реки (на самом деле катились по улице экипажи), в желтоватых водах которой мерцают потускневшие искорки дневного света.
По воскресеньям в час великой мессы в этой апсиде никого не было. Вся публика заполняла неф перед главным алтарем, а кое-кто проскакивал дальше, в капеллу Богоматери. Поэтому Дюрталь оставался чуть не один, но даже те, кто проходил через его убежище, не были ни смущены, ни рассержены на него, как прихожане других церквей. Квартал был нищий, и люди все очень бедные: старьевщики, перекупщики, сестры милосердия, детвора, оборванцы; больше всего было женщин в лохмотьях: они ступали на цыпочках, становились на колени, не оглядываясь; бедняжек смущала даже чахлая пышность алтарей; они едва смели с покорностью поднять глаза, а когда за спиной проходил привратник, склонялись до земли.
Дюрталь, растроганный немым смирением этих неимущих, слушал мессу, которую пел небольшой, но хорошо выученный хор. Капелла Сен-Северен лучше, чем в Сен-Сюльписе (где службы, впрочем, совершались гораздо пышнее и правильнее), исполняла чудо древнего распева — Credo [40]. Она возносила его до самой вершины хоров, и когда негромкий голос певчего отпускал в медленный, благоговейный полет стих et homo factus est [41], напев с широко распростертыми крыльями словно парил над ниц лежащей паствой. Он был и лапидарен, и текуч, нерушим, как сами члены Символа веры, вдохновлен словами, которые Дух Святой говорил апостолам, в последний раз собравшимся возле Христа.
В Сен-Северене сперва гулкий бас возглашал начало стиха, а затем детские голоса, поддержанные остальными певчими, продолжали его, и вместе с тем утверждались непреложные истины: в солирующем мужском голосе они становились обдуманнее, важнее, внятнее и жалобнее, и даже, пожалуй, робче, но уж потом, в непрерываемом мальчишеском порыве, привычней и веселей.
В этот миг Дюрталю казалось, что он сам взлетает, и он восклицал про себя: невозможно ведь, чтобы наитие веры, сотворившее эту музыкальную очевидность, оказалось ложным! Эти фразы звучат как сверхчеловеческие; так далеки они от светской музыки, которая никогда не достигала неприступного величия этого обнаженного пения!
Впрочем, в Сен-Северене превосходна была вся месса: глухо-торжественное Kyrie eleison [42]; Gloria in excelsis [43], разделенное между большим и малым органом; первый пел сам, а второй, направляя и поддерживая хор, пробуждал в слушателях радость; Sanctus [44], горячий и почти страшный, когда хор восклицал Hosanna in excelsis [45], взметавшееся до самых сводов; и Agnus Dei [46], еле звучащий в чистой умоляющей мелодии, в смирении своем не смевшей звучать громче…
Словом, кроме Salutaris [47], контрабандой вброшенного сюда, как и во все остальные церкви, в Сен-Северене по рядовым воскресеньям сохранялась музыка старинной литургии; ее там исполняли почти благоговейно, ломкими, но красиво окрашенными детскими голосами, с опорой на крепко зацементированные басы, из глубин которых исходили могучие звуки.
И радостно было Дюрталю засиживаться в этой дивной средневековой атмосфере, в этом пустынном сумраке, среди песнопений, звучавших у него за спиной, так что он не видел гримас поющих, и они его не раздражали.
Кончалось тем, что в нем, потрясенном до глубин души, сотрясающемся от нервных рыданий, всплывала вся горечь его жизни. Полон неясных страхов, смутных поползновений, что угасали, так и не найдя выхода, он проклинал свое подлое существование, клялся подавить беспокойство плоти.
Затем, когда месса кончалась, он проходил по всему храму, восхищался взлетом этого нефа, который строился четыре столетия: они запечатлели на нем свои знаки, оставили свои неповторимые признаки, отпечатки своих преданий, явственно зримые под опрокинутыми колыбелями арок. Столетия соединялись, чтобы положить к стопам Христовым сверхчеловеческое усилие своего искусства, и можно было поныне видеть, что именно каждый из них принес. XIII век вытесал низкие, приземистые столбы с капителями, увенчанными нимфеями, трехлистными вахтами, широкоплоскостными листьями, изгибавшимися крюками и завивавшимися, как верхушки епископских посохов. XIV век возвел колонны боковых пролетов, на которых пророки, иноки, святые поддерживали своими телами пяты арочных сводов. XV век и XVI сотворили апсиду, алтарь, отчасти даже витражи над клиросом, и даже те сапожники, которые все это реставрировали, все-таки сохранили их варварскую грацию, трогательную наивность.
Казалось, витражи были рисованы предтечами эпинальских картинок {19} и тут же раскрашены самыми беспримесными цветами. Благотворители и святые, проходившие процессией на этих светлых картинах в каменных рамах, все были неуклюжие, задумчивые, одеты в гуммигутовые платья — бутылочно-зеленые, лазорево-синие, смородинно-красные, баклажанно-лиловые, виноградно-бордовые; эти цвета казались еще насыщеннее рядом с фрагментами тел, ненаписанными или утраченными — во всяком случае, их стеклянная кожа оставалась не окрашена. В одном из окон Христос на кресте казался даже совсем прозрачным и весь светился меж голубых пятен неба и красно-зеленых стекол, изображавших крылья ангелов, лики которых были тоже как будто высечены из хрусталя и исполнены света.