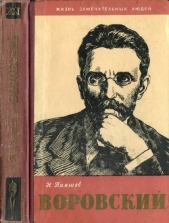ИЗ ЗАПИСОК И ВОСПОМИНАНИЙ СУДЕБНОГО ДЕЯТЕЛЯ

ИЗ ЗАПИСОК И ВОСПОМИНАНИЙ СУДЕБНОГО ДЕЯТЕЛЯ читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я? Овсянников? - и он вскочил с своего места. - Да вы шутить, что ли, изволите? Меня под стражу?! Степана Тарасовича Овсянникова? Первостатейного именитого купца под стражу? Нет, господа, руки коротки! Овсянникова!! Двенадцать миллионов капиталу! Под стражу! Нет, братцы, этого вам не видать!" - "Я вам повторяю свое предложение, а затем как хотите, только вы отсюда поедете не домой", - сказал я. "Да что же это такое! - опять воскликнул он, ударяя кулаком по столу. - Да что я, во сне это слышу?
Да и какое право вы имеете? Таких прав нет! Я буду жаловаться! Вы у меня еще ответите!" Его прервал Книрим, который прочел краткое постановление о взятии под стражу и предложил ему подписать. Тут он смирился и послал на извозчике одного из сторожей за старшим сыном. Допрос, между тем, продолжался вследствие выраженного им желания дать еще некоторые разъяснения. С прибывшим сыном он обошелся очень сурово, и когда тот, по моему приглашению, хотел сесть, он так взглянул на него, что тот заколебался и сел лишь, когда отец крикнул ему: "Ну, садись, садись! Я не воспрещаю".
На свой арест Овсянников принес жалобы в окружной суд и затем в судебную палату. Жалобы эти были написаны хотя и кратко, но искусно, умелою рукою. Оказалось, что их писал известный талантливый цивилист Боровиковский, незадолго перед тем перешедший в адвокатуру из товарищей прокурора Петербургского окружного суда. За этот свой небольшой письменный труд, так как по жалобам такого рода поверенные не допускались к личным объяснениям, Боровиковский получил от Овсянникова 5 тысяч рублей. Известие об этом произвело некоторое волнение в петербургском обществе, очень чутко относившемся ко всему, что касалось дела Овсянникова. В огромном городе за небольшую работу многие были склонны видеть указание на то, что "король Калашниковской биржи" не остановится ни перед какими жертвами для того, чтобы попытаться еще раз остаться в совершенно безвредном для него "подозрении". Некоторые применяли к поверенному обвиняемого стихи Некрасова:
"Получив гонорар неумеренный, восклицал мой присяжный поверенный: перед вами стоит гражданин - чище снега Альпийских вершин". Это доходило до Боровиковского и действовало на его впечатлительную натуру удручающим образом, так что он пришел, наконец, ко мне - своему старому сослуживцу и бывшему начальнику - и заявил, что жалобы написаны им потому, что его убедили в невиновности Овсянникова, сделавшегося жертвой общественного предубеждения, но что он готов возвратить деньги для избежания дальнейших упреков. Я сказал ему, что Овсянников может не взять денег обратно, не желая пользоваться его безвозмездными услугами, и что, кроме того, огласкою возвращения этих денег назад Боровиковский бросит лишний груз на чашу обвинения во вред доверившемуся ему клиенту, так как это возвращение будет, без сомнения, истолковано как признание им, Боровиковским, виновности последнего.
Поэтому лучше дождаться решения присяжных и затем, подчинившись ему, пожертвовать такие деньги на какоелибо доброе дело, если приговор состоится против Овсянникова. Взволнованный Боровиковский не без труда согласился последовать этому совету. В день произнесения обвинительного приговора об Овсянникове он прислал в мое распоряжение, для употребления с благотворительною целью, 5 тысяч рублей, каковые я немедленно препроводил ректору Петербургского университета П. Г. Редкину для обращения, по его усмотрению, в пользу нуждающихся студентов.
У Овсянникова нашлись и другие заступники. Одним из них была напечатана заметка, в которой горячо доказывалось, что человек, жертвовавший большие суммы на церкви и казенные благотворительные учреждения, не мог совершить корыстного преступления, причем приводился и самый список таких пожертвований в довольно крупных суммах. Указание на такие жертвы нельзя было, однако, назвать удачным. Овсянников, как он сам выразился на суде, шел "с материнской колыбели" к широкому хлебному рынку, опираясь на крупные и выгодные интендантские подряды, и, наконец, сделался одним из самых могущественных обладателей этого рынка, окруженным лицемерным поклонением менее крупных поставщиков, среди которых он привык играть властительную роль, повелительно ставя свои условия. Но с начала 70-х годов многолетний подряд на поставку муки петербургскому военному округу стал неразрывно связываться с обязанностью перемалывать хлеб на паровой мельнице, которой Овсянников был не собственником, а только арендатором, чувствующим себя в косвенной зависимости от собственника мельницы Кокорева, имевшего возможность отказать в продолжении аренды, т. е.
лишить его долгосрочного контракта с казною и тем поколебать влиятельное положение честолюбивого и не знающего "препятствий своему нраву" старика, на восьмом десятке его жизни. Поэтому не корысть, а более сложные побуждения могли заставить его желать пожара мельницы перед истечением срока контракта - пожара, который обессилил бы его недруга Кокорева и заставил бы военное ведомство отказаться от ненавистного условия о временном перемоле хлеба на паровой мельнице. При том - щедрые пожертвования при надлежащей и услужливой огласке не менее щедро оплачивались различного рода почетными наградами и публичным возвеличиванием "маститого благотворителя". Не говоря уже об имевшихся в деле сведениях о суровом и черством отношении Овсянникова к тяжелому положению простых и незаметных людей, находившихся от него в трудовой зависимости, мне пришлось случайно убедиться в том, как мало трогало его горькое положение даже и таких людей, к которым он относился, по-видимому, доброжелательно.
Недели через две после арестования Овсянникова моя старая служанка, которой было категорически запрещено ходатайствовать за кого-либо или докладывать мне о какихлибо просителях по делам ("чтобы никакого эхо не было", как она объясняла себе мое требование), после больших предисловий о том, что бог меня наградит и что много на свете несчастных людей, стала меня просить все-таки выслушать на дому одну бедную девушку, которая очень нуждается в моем совете, не зная, как ей быть от "мужского обмана", но в суд ко мне идти не решается, так как она "девушка порядочная и скромная и никогда по таким местам не ходила". Нечего делать, надо было уступить, и ко мне явилась миловидная, но болезненного вида девушка, лет 20, немного цыганского типа, с черными глазами и худенькими руками, одетая очень бедно. На ней был длинный темный платок, расходившиеся концы которого спереди она стыдливо и постоянно оправляла и сближала. Она печально потупляла голову, голос ее по временам дрожал, а глаза наполнялись слезами, которые она как-то трогательно и конфузливо собирала пальцами и стряхивала на пол. "Мы живем с маменькой "честно-благородно"
и занимаемся по швейной части. Нам, зная нашу бедность, помогал и часто заезжал к нам купец Тарасов, холостой, был очень добр и ласков, облегчал в нужде мамашу и меня:
я его почитала как отца родного, и он обещал меня не оставить своей помощью. А потом вдруг перестал ездить - совсем нас позабыл, и по адресу Тарасова оказалось совсем другое лицо. Теперь же мы очень бедствуем: приходится жить штучной работой для рынка, а много ли так наработаешь?! Да и здоровье мое стало слабое, и в люди показаться стыдно, а о маменьке и говорить нечего. Мы узнали, что купец этот - Степан Тарасович Овсянников - находится в заточении. Так это нам прискорбно, что и сказать нельзя, а пойти к нему или написать не смеем: сказывают, начальство не допустит. Бог даст, соберемся с силами и работу постоянную найдем, так и поправимся, а теперь очень трудно. Опять же и лекарства для маменьки… просто хоть руки на себя наложить! Я уж и то хотела в Неву броситься, да маменьку жаль: она этого не переживет… А как сообщить о моем положении Степану Тарасовичу - не знаем: как бы его не прогневить в несчастии. Может у вас есть кто знакомый из начальства… Окажите божескую милость: научите, что делать?!." Ее слезы и неподдельное участие к судьбе "благодетеля" очень тронули меня, и я, предложив ей написать Овсянникову письмо с объяснением своего грустного материального положения, обещал это письмо не только передать ему, но и попросить его ответа. Она ушла несколько успокоенная, а на следующий день прислала письмо на имя "батюшки Степана Тарасыча", написанное довольно связно и начинавшееся так: "Осведомилась я, что вы, благодетель наш, попали в руки злодеев" и т. д. В некоторых местах буквы расплывались от пролитых над письмом слез. Оно кончалось словами: "День и ночь молюсь за вас и целую, припадаючи, ручки". Один из "злодеев" - в моем лице - передал письмо товарищу прокурора Вильямсону, заведовавшему арестантскими помещениями, с просьбой вручить его Овсянникову и спросить, не будет ли какоголибо ответа. Дня через два Вильямсон рассказал мне, что когда, приехав в Коломенскую часть, он заявил Овсянникову, что прокурор передал ему письмо на его имя с просьбой дать ответ, Овсянников чрезвычайно оживился, встрепенулся и быстро спросил: "Какое? какое письмо? от самого прокурора?" По-видимому, он вообразил себе, что старые судебные порядки снова для него оживают, хотя и в новых обличиях. Он почти вырвал у Вильямсона письмо из рук и, пытливо на него поглядывая, отошел к окну и стал читать.