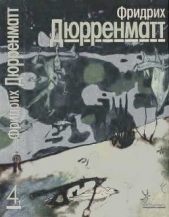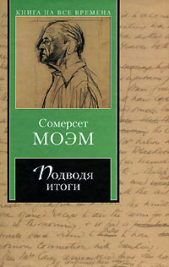Собрание сочинений в пяти томах. Том пятый. Пьесы. На китайской ширме. Подводя итоги. Эссе.

Собрание сочинений в пяти томах. Том пятый. Пьесы. На китайской ширме. Подводя итоги. Эссе. читать книгу онлайн
В пятый том Собрания сочинений У. С. Моэма вошли его пьесы: «Круг», «За заслуги», очерки о путешествиях «На китайской ширме», творческая исповедь писателя «Подводя итоги», а также эссе из различных сборников.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Милосердию чужда преходящность, этот неизлечимый изъян любви. Правда, оно не совсем лишено сексуального элемента. Это как в танцах: танцуешь ради удовольствия, которое доставляет движение в определенном ритме, и не обязательно мечтаешь оказаться в постели со своим партнером; но приятно танцевать лишь в том случае, если это не было бы тебе противно. В милосердии половой инстинкт сублимирован, но он сообщает этому чувству частичку своей теплой и живительной силы. Милосердие — лучшее, что есть в доброте. Оно смягчает более суровые качества, из которых она состоит, и благодаря ему не так трудно даются второстепенные добродетели: сдержанность, терпение, самообуздание, терпимость — эти пассивные и не слишком вдохновляющие элементы доброты. Доброта — единственная ценность, которая в нашем мире видимостей как будто имеет основания быть самоцелью. Добродетель сама себе награда. Мне стыдно, что я пришел к столь банальному выводу. При моей врожденной любви к эффектам я хотел бы закончить эту книгу каким-нибудь неожиданным парадоксом или циничной эпиграммой, которая дала бы читателю повод с усмешкой заметить, что он узнает мою манеру. А выходит, что мне почти нечего сказать сверх того, что можно прочесть в любых прописях или услышать с любой церковной кафедры. Я проделал долгий кружной путь, чтобы прийти к тому, что всем уже было известно.
Почтительность мне не свойственна. Ее и так больше чем нужно. От нас требуют почтительности ко многому такому, что ее не заслуживает. Часто это лишь условная дань, которой мы отделываемся, когда не хотим активно чем-нибудь заинтересоваться. Лучшая дань, какую мы можем отдать великим людям прошлого — Данте, Тициану, Шекспиру, Спинозе,— это относиться к ним не почтительно, а совсем просто, как если бы они были нашими современниками. Это лучшее, чем мы можем их отблагодарить; такая простота обращения доказывает, что они для нас живые. Но когда мне время от времени доводилось встречать настоящую доброту, тогда почтительность, даже благоговение волной поднималось у меня в сердце. И совсем не важным казалось, что редкие люди, ею наделенные, подчас бывали чуть менее умны, чем мне бы хотелось. В детстве, когда я был очень несчастлив, мне каждую ночь снилось, что моя школьная жизнь — сон и что, проснувшись, я снова окажусь дома, с матерью. Ее смерть причинила мне боль, которая и за пятьдесят лет не совсем утихла. Этот сон давно уже мне не снится; но до сих пор меня не покидает смутное ощущение, что моя действительная жизнь — мираж, в котором я делаю то-то и то-то, потому что так пришлось, но на которую я, не переставая играть в ней свою роль, могу смотреть издали и знать, что она — мираж. Когда я оглядываюсь на свою жизнь с ее успехами и срывами, ее бесчисленными ошибками, ее обманами и свершениями, радостями и горестями, она кажется мне до странности нереальной. Она призрачна и невещественна. Может быть, мое сердце, нигде не найдя покоя, глубоко затаило древнюю жажду Бога и бессмертия, с которой мой разум не желал считаться. Мне иногда казалось, что за неимением лучшего я могу сам с собой притворяться, будто доброта, которую я, в сущности, не так уж редко встречал на своем пути, реальна. В ней мы, пожалуй, вправе видеть если не смысл жизни и не объяснение ее, то хотя бы частичное ее оправдание. В нашем равнодушном мире с его неизбежным злом, которое подстерегает нас от колыбели до могилы, она может служить пусть не вызовом и не ответом, но утверждением нашей независимости. Доброта — защитная реакция юмора на трагическую бессмысленность судьбы. В отличие от красоты она может быть совершенной, не будучи скучной и она выше любви, потому что прелесть ее не вянет от времени. Но доброта выражается в правильных поступках; а кто в этом путаном мире может сказать, что такое правильный поступок? Во всяком случае, это не тот поступок, который имеет целью счастье; если он приводит к счастью, то это счастливая случайность. Платон, как известно, призывал своего мудреца отказаться от безмятежной созерцательной жизни ради сутолоки практических дел, тем самым ставя исполнение долга выше, чем желание счастья; и каждый из нас, вероятно, решался иногда на какой-то шаг, потому что считал его правильным, хотя прекрасно знал, что он не принесет ему счастья ни теперь, ни в будущем. Так что же такое правильный поступок? Для себя я не знаю лучшего ответа на этот вопрос, чем тот, который дает брат Луис де Леон. Следовать его заповеди не настолько трудно, чтобы это отпугнуло человеческую слабость как нечто непосильное. Ею я заканчиваю свою книгу. Красота жизни, говорит он, заключается всего-навсего в том, чтобы каждый поступал сообразно со своей природой и со своим делом.
ЭССЕ
УПАДОК И РАЗРУШЕНИЕ ДЕТЕКТИВА
I
Когда после дня тяжких трудов у вас выдается свободный вечер и вы обшариваете глазами книжные полки в поисках, что бы такое прочесть,— какую книгу вы выберете: «Войну и мир», «Воспитание чувств», «Миддлмарч» или «По направлению к Свану» [*48]. Если так, я восхищаюсь вами. Если же, стремясь не отстать от современной литературы, вы принимаетесь за присланный издателем душераздирающий роман о жизни перемещенных лиц в Центральной Европе или за роман, рисующий неприглядную картину жизни белой гольтепы в Луизиане, который купили, соблазнясь рецензией, я горячо одобряю вас. Но я ничуть на вас не похож. Во-первых, я перечел все великие романы три-четыре раза и не могу открыть в них ничего для себя нового; во-вторых, когда я вижу четыреста пятьдесят страниц убористого шрифта, которые, если верить аннотации на обложке, обнажат передо мной тайну женского сердца или измучат описанием ужасной жизни обитателей трущоб в Глазго (и заставят продираться сквозь их сильнейший шотландский акцент), я прихожу в уныние и снимаю с полки детектив.
В начале последней войны я оказался заточен в Бандоле, приморском курорте на Ривьере, причем, надо сказать, по вине отнюдь не полиции, а обстоятельств. Жильем мне тогда служила парусная яхта. В мирное время она стояла на якоре в Вильфранше, но морские власти велели нам убираться, и мы направились в Марсель. В дороге нас настиг шторм, и мы нашли пристанище в Бандоле, где имелось что-то вроде гавани. Частные лица были лишены свободы передвижения, и мы не могли поехать не то что в Тулон, но и за десять километров без специального пропуска, а его выдавали лишь после несносной волокиты, требовавшей заполнения всевозможных формуляров и представления кучи фотографий. И я поневоле сидел на месте.
Курортная публика, наводнявшая Бандоль летом, толпами покидала городок, и он приобрел потерянный, жалкий вид. Игорный дом, большинство гостиниц и магазинов закрылись. И тем не менее я отлично проводил время. Каждое утро в писчебумажном магазине можно было купить «Пети Марсейе» и «Пети Вар», выпить свое café au lait [*49], ходить за покупками. Я узнал, где можно приобрести лучшее масло, кто лучше всего печет хлеб. Я пускал в ход все свое обаяние, чтобы заставить старую крестьянку продать мне полдюжины свежих яиц. С сокрушением я обнаружил, что из уймы, горы шпината после варки остается лишь жалкая кучка. Я лишний раз ужасался своему непониманию человеческой натуры, когда ларечник на рынке продавал мне переспелую дыню или твердый как камень камамбер (при этом трепещущим от искренности голосом заверяя меня, что сыр «à point» [*50]),— ведь именно из-за его честного лица я сделался его постоянным покупателем. И всегда питала надежда, что в десять придут английские газеты, пусть недельной давности — все равно я жадно проглатывал их. В двенадцать по радио передавали последние известия из Марселя. Потом можно было пообедать, соснуть. Днем для моциона я гулял взад-вперед по набережной или смотрел, как мальчишки и старики (других мужчин в городе не осталось) бесконечно гоняли в boule [*51]. В пять приходила «Солей» из Марселя, и я еще раз читал все те новости, которые вычитал поутру в «Пети Марсейе» и «Пети Вар». Потом я не знал, чем себя занять вплоть до половины восьмого, когда по радио снова передавали новости. После наступления темноты нельзя было и носа высунуть на улицу, и если хоть лучик света проникал наружу, пэвэошники, циркулировавшие по набережной, поднимали страшный крик, и приходилось немедля заделывать щелки. И тут уж ничего не оставалось, кроме как читать детективы.