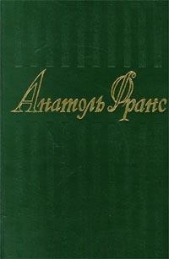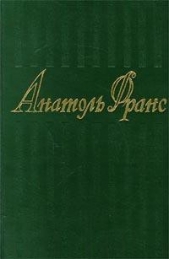1том. Стихотворения. Коринфская свадьба. Иокаста. Тощий кот. Преступление Сильвестра Бонара. Книга м
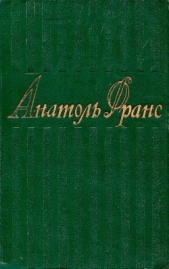
1том. Стихотворения. Коринфская свадьба. Иокаста. Тощий кот. Преступление Сильвестра Бонара. Книга м читать книгу онлайн
В первый том собрания сочинений вошли стихотворения, драматическая поэма «Коринфская свадьба» (Les Noces corinthiennes, 1876), ранние повести: «Иокаста» (Jocaste, 1879), «Тощий кот» (Le Chat maigre, 1879), роман, принёсший ему мировую известность «Преступление Сильвестра Боннара» (Le Crime de Sylvestre Bonnard, 1881) и автобиографический цикл «Книга моего друга» (Le Livre de mon ami, 1885).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мало-помалу я набрался храбрости и дал себе слово, что в свое время буду тоже править гранки. Мое желание так и не осуществилось, о чем я не очень скорблю, узнав из разговоров с моим другом-писателем, что пресытиться можно всем, даже правкой корректуры. Но тем не менее на мое призвание мой старый друг Лебо оказал несомненное воздействие. Своеобразная обстановка в его доме с детства приучила меня к древним и редкостным формам, направила мою мысль и привила мне интерес к былому. Сам Лебо, изо дня в день весело и спокойно трудившийся на поприще науки, своим примером внедрил в меня жажду познания. Наконец, именно благодаря ему я пристрастился к чтению, стал усердным комментатором старинных текстов и пишу мемуары, которые никогда не будут напечатаны.
Мне было двенадцать лет, когда незаметно скончался этот милый старый оригинал. Вы сами понимаете, что его каталог так и остался в гранках и не был напечатан. Нанон продала мумии и прочие редкости антикварам; было это четверть века тому назад.
На прошлой неделе, на аукционе в особняке Друо я увидел одну из тех маленьких Бастилий, которые патриот Палуа в 1789 году высекал из камня разрушенной крепости, предлагая за скромную плату муниципалитетам и отдельным гражданам. Эта модель не представляла большой редкости, была громоздка, тем не менее я рассматривал ее с каким-то инстинктивным любопытством и почувствовал волнение, разобрав у подножия одной из башенок полустертую надпись: «Из коллекции г-на Лебо».
Нынче утром мой отец казался очень расстроенным. Матушка была чем-то озабочена и говорила шепотом. В столовой портниха шила траурные платья.
За завтраком все сидели грустные, чего-то не договаривали. Я прекрасно чувствовал: что-то случилось,
И вот пришла мама, вся в черном и под траурной вуалью; она позвала меня:
— Пойдем, душенька.
Я спросил куда. Она ответила:
— Пьер, слушай хорошенько, что я скажу. Твоя бабушка Нозьер… знаешь, папина мама… сегодня ночью скончалась. Пойдем простимся с ней и поцелуем ее в последний раз.
И я увидел у матушки на глазах слезы. На меня это, видимо, произвело сильное впечатление, потому что, несмотря на протекшие годы, оно еще не изгладилось, но впечатление настолько смутное, что я не в силах передать его словами. Не могу сказать, чтобы оно было грустное. Во всяком случае, грусть эта не была гнетущей. Пожалуй, для этого впечатления, в котором полностью отсутствовал элемент реального, подходит только одно слово, одно-единственное — «романическое».
Дорогой я все время думал о бабушке, но никак не мог себе представить, что же такое с ней случилось.
Умерла! Я не понимал, что это значит. Только чувствовал, что мгновение сейчас торжественное.
Чем ближе мы подходили к осиротевшему дому, тем сильнее, разумеется, работало мое воображение, и мне казалось, что смерть бабушки наложила печать на все вокруг; утренняя тишина на улицах, оклики соседей и соседок, торопливые шаги прохожих, стук кузнечного молота — всему причиной была смерть бабушки. С этой мыслью, всецело овладевшей мною, я связывал и красоту деревьев, и мягкость воздуха, и сияние неба, впервые замеченные мною.
Я чувствовал, что вступаю в таинственный мир, и когда, дойдя до угла улицы, увидел хорошо знакомые садик и флигель, то почувствовал какое-то разочарование, не найдя в них ничего необычайного. Птицы пели.
Мне стало страшно, и я взглянул на мать. Ее взор, исполненный благоговейного трепета, был устремлен в одну точку. И я посмотрел туда же.
И тогда я увидел, что сквозь занавешенные окна бабушкиной спальни мерцает свет, бледный и тусклый. И этот свет при ярком сиянии дня казался бесконечно унылым. Чтобы не видеть его, я опустил голову.
Мы поднялись по узкой деревянной лестнице и прошли по квартире, где царила глубокая тишина. Когда матушка протянула руку, чтобы открыть дверь в спальню, мне захотелось удержать ее… Мы вошли. Сидевшая в кресле монахиня поднялась и уступила нам место у изголовья кровати. На кровати, закрыв глаза, покоилась бабушка.
Мне показалось, что голова ее стала тяжелой, словно камень, — так глубоко ушла она в подушки. Я очень ясно видел бабушку. Белый чепчик прикрывал волосы; она казалась моложе, чем обычно, хотя и была очень бледна.
О, как мало походил этот покой на сон! И откуда появилась на ее лице лукавая и упрямая усмешка, на которую было так горестно глядеть?
Мне почудилось, что веки ее чуть вздрагивают, это впечатление, вероятно, создавал трепетный отблеск двух горевших на столе свечей, — они стояли рядом с тарелкой, в которой мокла в святой воде буксовая веточка.
— Поцелуй бабушку, — сказала мне мать.
Я повиновался. Нет, никакими словами, никогда не передать мне то ощущение холода, которое охватило меня.
Я опустил глаза и услышал, как всхлипывала мать.
Право, не знаю, что бы со мною было, если бы меня не увела из спальни бабушкина горничная.
Она взяла меня за руку, привела в игрушечную лавку и сказала:
— Выбирай!
Я выбрал самострел и забавлялся, стреляя горохом в листья на деревьях. О бабушке я забыл.
Только вечером, взглянув на отца, я вспомнил свое утреннее настроение. Моего несчастного отца нельзя было узнать. У него было распухшее, лоснящееся, воспаленное лицо, в глазах стояли слезы, губы дергались!
Он не слышал того, что ему говорили, и был какой-то подавленный и раздражительный. Матушка сидела рядом и надписывала адреса на конвертах с траурной каймой. Ей помогали родные. Меня научили, как складывать письма. Нас собралось за большим столом
499 17*
человек десять. Было душно. Я занимался новой интересной работой и чувствовал себя важной персоной.
После смерти бабушка стала жить для меня другой жизнью, более значительной, чем первая. С необычайной ясностью представлял я себе все, что она говорила и делала, а мой отец каждый день рассказывал о ней так живо, что вечером, за столом, нам казалось, будто она разделяет с нами трапезу. Почему не сказали мы дорогому призраку того, что сказали Учителю ученики, шедшие в Эммаус: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». О! Каким очаровательным привидением была моя бабушка! В голове не укладывалось, что эта старушка в кружевном чепце с зелеными лентами может ужиться в загробном мире. Представление о смерти совсем не вязалось с ней. Умирать подобало монахам или красавицам героиням, но не такой старушке, какой была бабушка, всегда нарядная, веселая, ветреная.
Я расскажу вам, что узнал о ней не с чужих слов, а сам, когда она была еще жива.
Бабушка отличалась легкомыслием, бабушка была снисходительна по части морали, бабушка была не более набожна, чем птичка. Вы бы только видели, как лукаво поглядывала она по воскресеньям на нас с матушкой, когда мы отправлялись в церковь. Ей казалось смешной та серьезность, с какой матушка относилась ко всем делам как нашего, так и загробного мира. Она легко прощала мне все прегрешения, а также, разумеется, и прегрешения более тяжкие, чем мои. Она говорила:
— Вот увидите, он своему отцу много очков вперед даст.
Она имела в виду, что я стану ярым танцором и великим женолюбом. Она мне льстила. Единственное, что она одобрила бы, будь она жива (ей было бы теперь сто десять лет), это мое легкое отношение к жизни и счастливую снисходительность, за которые я заплатил не слишком дорого, поступившись некоторыми моральными и политическими убеждениями. В бабушке все эти свойства были вполне естественными и потому особенно привлекательными. Она скончалась, так и не подозревая в себе этих качеств. Мне до нее далеко, ибо я сознаю, что я человек терпимый и общительный.
Бабушка принадлежала к XVIII веку. И это было видно. Жаль, что никто не записал ее воспоминания. Написать их сама она была неспособна. Но моему отцу, пожалуй, лучше было заняться ими, чем измерять черепа папуасов и бушменов. Каролина Нозьер родилась в Версале 16 апреля 1772 года; она была дочерью врача Дюсюэля, ум и характер которого ценил Кабанис [241]. Это был тот самый Дюсюэль, который в 1786 году лечил дофина, болевшего легкой формой скарлатины. Придворная карета ежедневно приезжала за ним в Люсьен, где он скромно жил в небольшом домике, среди книг и гербариев, как истый последователь Жан-Жака [242]. Однажды карета возвратилась во дворец без него: врач отказался приехать. При следующем визите возмущенная королева сказала: