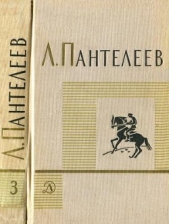Рассказы. Очерки. Воспоминания. Пьесы

Рассказы. Очерки. Воспоминания. Пьесы читать книгу онлайн
В двадцать второй том третьей серии вошли рассказы( "Мака Чудра", "Старуха Изергиль", "Челкаш", "Бывшие люди", из цикла "Сказки об Италии" и др.), воспоминания( Чехов, Л.Толстой, Ленин) и пьесы( "Ha дне", "Егор Булычов и другие") Максима Горького.Составление и вступительная статья А. Овчаренко.
Комментарии Н. Жегалова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!»
Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушел назад, не желая мешать его думам. А вот теперь — чувствую себя сиротой, пишу и плачу, — никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю — любил ли его, да разве это важно — любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал все новое и тотчас высасывал смысл всего.
— Здравствуйте!
Я всегда переводил это слово так: «Здравствуйте, — удовольствия для меня, а для вас толку не много в этом, но все-таки — здравствуйте!»
Выйдет он — маленький. И все сразу станут меньше его. Мужицкая борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда и весь этот внешний, удобный демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие встречать человека «по платью» — древняя, холопья привычка! — начинали струить то пахучее «прямодушие», которое точнее именуется амикошонством.
«Ах, родный ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй вовеки и прими поклон мой!»
Это — московско-русское, простое и задушевное, и вот еще русское, «свободомысленное»:
«Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице вашем великого художника…»
И вдруг из-под мужицкой бороды, из-под демократической, мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ, — тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.
Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских людей — москвичом — возвращаться из Ясной Поляны в Москву, так он долго отдышаться не мог, все улыбался жалобно и растерянно твердил:
— Н-ну, — баня. Вот строг… фу!
И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:
— А ведь я думал, — он и в самом деле анархист. Все твердят — анархист, анархист, я и поверил…
Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета, — зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из «глубоких тайн» русской души.
Если Л. Н. хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, [132] и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает им учение Лао-тце, [133] а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах — на медной трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз и — не увижу больше никогда.
Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получена телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толстого». Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.
Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость — жалеть людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.
Он спрашивал:
— Не нравлюсь я вам?
Надо было говорить: «Да, не нравитесь».
— Не любите вы меня? — «Да, сегодня я вас не люблю».
В вопросах он был беспощаден, в ответах — сдержан, как и надлежит мудрому.
Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе. О Фете — с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове — холодно, скептически, но обо всех писателях так, словно это были дети его, а он, отец, знает все недостатки их и — нате! — подчеркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостыню подает на бедность их; слушать суждения его было неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались глаза — и ничего не оставалось в памяти.
Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке и никакого таланта у него не было. И он же при мне говорил А. П. Чехову:
— Вот — писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот — проще, искреннее. Если бы он в бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.
— А как же вы говорили — тульский писатель и — таланта нет?
Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:
— Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков препинания, чем слов. Талант — это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на влюбленных, — все талантливы!
О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.
— Ему познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это — главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти, — рассердится — на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал многое, а думал — плохо, он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича [134] и других. Потом — ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю — почему! Ведь тяжело и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и всё — не так было, всё проще, понятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель, — вы читали его?
— Да. Очень люблю, особенно — язык.
— Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его любите, вы какой-то не русский, у вас не русские мысли, — ничего, не обидно, что я так говорю? Я — старик и, может, теперешнюю литературу уже не могу понять, но мне все кажется, что она — не русская. Стали писать какие-то особенные стихи, — я не знаю, почему эти стихи и для кого. Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы, — он обратился к Чехову, — вы русский! Да, очень, очень русский.
И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.
Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:
— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто — чудесный!
Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил;
— Хорошо написал старик, хорошо!
Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я вовек не забуду восторга, испытанного мною тогда, — восторга, который я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом все вокруг стало живительно свежо и ново.