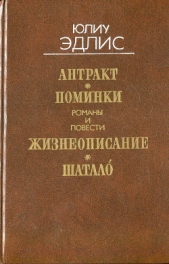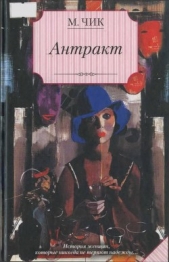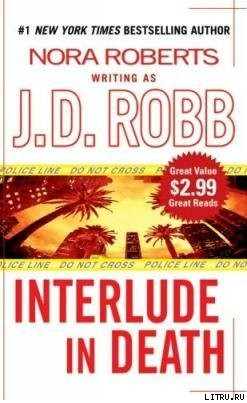Антракт: Романы и повести

Антракт: Романы и повести читать книгу онлайн
При всем различии сюжетов, персонажей, среды, стилистики романы «Антракт», «Поминки» и повести «Жизнеописание» и «Шатал?» в известном смысле представляют собою повествование, объединенное неким «единством места, времени и действия»: их общая задача — исследование судеб поколения, чья молодость пришлась на шестидесятые годы, оставившие глубокий след в недавней истории нашей страны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Была уже осень, за окнами лил дождь, Вспольный отблескивал черным зеркалом мокрого асфальта, облетали липы. Мы лежали рядом под мерный шорох дождя на нашей семейной постели, только что сделанной на заказ, — запоздалое ложе любви в новом нашем, возведенном для долгого, покойного и прочного счастья доме.
Я докурил сигарету и погасил свет, мы лежали в темноте и молчали, слышали ровное дыхание друг друга, и молчание наше доставалось нам недешево: мы оба знали, о чем молчим, и больше всего страшились заговорить, сказать об этом вслух.
В темноте я потянулся на ощупь за новой сигаретой, спичка вспыхнула и погасла, и, когда она погасла, ты сказала едва слышно:
— Я вот что хотела, Юра… То есть я не хотела, но… Ты меня все спрашиваешь — что случилось, когда, почему?.. Так вот — да, есть другой, неважно кто, ты его все равно не знаешь, но я его люблю, и мы с ним уедем. Ты хотел знать. Так вот — я уезжаю.
Ты повторила, думая, что я не услышал:
— Есть другой, я его люблю, и я уезжаю с ним…
Ты сказала:
— Я не виновата, что все кончилось, никто не виноват. И я не хотела этого. И молчала не потому, что обманывала тебя, я не хотела обманывать, я просто еще надеялась. Я знаю, ты не поверишь, но я надеялась, что это не всерьез, пройдет, перемелется, что я справлюсь с этим сама. Я и сейчас не хочу этого, поверь, я боюсь, у меня разламывается голова, мне тыщу раз приходило на ум — лучше я выброшусь из окна! А ты ничего не замечал, вот за что я больше всего тебя ненавидела — что ты такой слепой, глухой, ничего не видишь, не хочешь мне помочь!.. Я боюсь, понимаешь?! Мне страшно!.. И не сегодня у нас с тобой все кончилось, не вчера, давно уже, но ты этого не понимал, не придавал значения, а я женщина, женщина лучше чувствует, раньше…
И, не дождавшись опять от меня ответа, ты сказала:
— Вот даже сейчас ты отмалчиваешься!.. И не в том дело, люблю я тебя или не люблю, теперь я и сама этого уже не знаю, теперь мне легче думать, что никогда и не любила, с самого начала… Да и какое это теперь имеет значение, чему это может помочь?! Я чужая стала, нет, не только тебе, я сама себе чужая, как будто это уже не я, а кто-то другой… И все мне чужое, все и всё, и ты тоже, ты — в первую очередь, может быть, именно потому, что я тебя все-таки любила… Это — беда, Юрочка, беда!.. Но что я могу поделать?! Я влюбилась как последняя дура, как девчонка, он уезжает, уже заявление подал, а мне сорок скоро, это — последний мой раз, пойми, последний! Если не сейчас, то уже никогда… Это все, что у меня осталось, — последний мой раз! И я решилась, как это мне ни страшно. Я еду, Юра…
И тогда я, не узнавая собственного голоса, спросил с великолепным, словно бы отрепетированным загодя спокойствием идиота:
— Куда?
Мне бы в ответ тебе — «я люблю другого, я уезжаю с ним» — ненавидеть тебя, презирать, прибить, испытывать к тебе гадливость и омерзение, — а я любил тебя сильнее, чем прежде.
Господи, какая на меня обрушилась гора любви!
Я не услышал твоего ответа на мое «куда?» — да и нетрудно было догадаться куда, тут и спрашивать было не о чем! — я задохнулся от этой своей любви, я исходил криком, униженно просил, убеждал, юродствовал, уж не помню, что я бормотал тогда, какие слова, какие доводы и мольбы, этот бессвязный бред длился всю ночь: только бы ты осталась, только бы не ушла!..
Я говорил, говорил и, не веря, верил, что все можно повернуть вспять, все можно друг другу простить и все начать сначала! Но тот дальний, потаенный уголок сознания, который всегда в нас трезв, часовой этот знал: ничего не повернуть, ничего не исправить.
Вся беда была в том, и мы это оба понимали, что мне любви твоей надо, а вот ее-то, малости этой, и не было уже в тебе. Ты могла мне в ту ночь обещать все: верность, преданность, заботу, но — не любовь. Тут ты была бессильна.
А ночь между тем серела, и когда квадрат окна налился гнилостным осенним рассветом, ты сказала, и я едва тебя расслышал:
— Прости.
Все эти последние дни у него не шла из головы, как заигранная, застрявшая на одном и том же месте пластинка, глупая песенка начала все тех же шестидесятых годов; «Ариведерчи, Рома, гуд бай, оревуар…» — может быть, потому, что он знал, что Майя поедет сначала в Вену, потом в Рим, а уж оттуда — невесть куда.
О чем бы он ни думал — впрочем, ни о чем другом, кроме Майиного отъезда, думать он не мог, — как ни пытался взять себя в руки, все одно и то же, одно и то же: «Ариведерчи, Рома»…
Никакого «ариведерчи» не будет, никакого «оревуар», никакого «до свидания» — только «прощай». Он впервые понял всю чудовищность этого слова: никогда.
Никогда больше не видеть, не слышать, не ощущать теплоту и нежность ее тела, никогда больше не коснуться его, не просыпаться ночью, чтобы убедиться, что она рядом.
Ни-ког-да!
Все эти два месяца, с того дня, когда она подала в ОВИР заявление, и до того, как получила разрешение, и еще месяц до ее отъезда он ни на миг не переставал упорно и тупо верить, что ничего не будет, что все уладится, никуда она не уедет, раздумает, сжалится над собою и над ним.
Она ушла с работы, распродала все свои зимние вещи — дубленку, теплые сапоги, свитера, кофты, она думала, там — ни холодов, ни промозглой осени. Она жила как в потемках, потерявши себя прежнюю и мучительно ища в себе новую себя, оборвавшую связи с былой жизнью, отрекшуюся от нее. Она словно даже лихорадочно спешила отречься и все забыть, чтобы хоть в тот короткий миг, когда самолет оторвется от взлетной полосы, быть в силах обмануть себя, что — не о чем жалеть, не по чему убиваться.
«Ариведерчи, Рома…»
Эта песенка вертелась у него на языке, в ней сошлись для него, как в фокусе, вся его растерянность и бессилие, он бормотал ее как заклинание, вышагивал по улицам и повторял, повторял про себя. Ему казалось, что она не только утишает остроколющую боль в сердце, но и может заговорить ее, как заговаривают кровь.
Все его мысли выстраивались в одну бессвязную цепочку, в жалкую мольбу: господи! сделай так, чтобы все стало, как было, сделай так, чтобы все сгинуло как дурной сон, я все ей прощу, все забуду, господи, верни мне ее, я буду любить ее денно и нощно, я теперь знаю — жить можно только любовью и прощением, я буду добр и терпелив, я удушу в себе обиду и спесь, я готов на все, господи, меня так измочалило, так растоптало, я приму все, что ты мне ни пошлешь, на что ни обречешь, даже если это и будет несправедливо, даже если это будет мне не по силам, только верни ее, не дай ей уйти, господи, только не это!..
Двадцатого марта она ушла утром из дома — теперь они жили порознь, она в спальне, он в кабинете, и во сне все то же: «Ариведерчи, Рома…» — а через несколько минут позвонила снизу, из автомата:
— Юра… я даже не знаю, как… Я вообще не знаю!..
В почтовом ящике… ну, там, в подъезде, в ящике… там письмо пришло… да, разрешение… Я не знаю!.. — Он услышал в трубке стон, она повесила трубку на рычаг: ту-ту-туту-ту…
Ариведерчи.
И все же и тут он не потерял жалкой надежды: в последний миг, у трапа самолета, она ужаснется, кинется к нему: «Нет, не могу, не хочу!»
Она не хотела никаких проводов, но друзья и подруги все равно придут, без проводов не обойтись, он знал, что не выдюжить ему этих проводов, не железный же он, всему есть предел!..
В тот вечер, ничего ей не сказав, он уехал, колесил вслепую до полуночи по городу, по пустынным улицам, не отдавая себе отчета, где он, но помимо воли круги его блужданий сужались, его бессознательно влекло к центру, к Садовому кольцу, в Вспольный переулок.
Квартира была залита светом, из гостиной раздавались голоса и смех, видно, набежала тьма народа, кто-то рассказывал что-то смешное, все хохотали, и все это было похоже не на проводы, не на поминки по целой жизни, а на веселую, беспечальную вечеринку.
Он прошел к себе, никто его и не услышал, окно с прошлой ночи было затянуто шторой, полный мрак. Он сидел в темноте, никто и не догадывался, что он тут, рядом, никто его не хватился. Отрезанный ломоть.