Народные сказки и легенды

Народные сказки и легенды читать книгу онлайн
Народные сказки и легенды, записанные в конце XVIII в. со слов крестьян и ремесленников в разных уголках Германии. Суть сказок осталась неизменной, но в литературной обработке писателя и рассказчика они приобрели еще большую выразительность.
Иоганн Карл Август Музеус (1735–1787), современник Гете, Шиллера и Лессинга, окончил Йенский университет, преподавал в гимназии в Веймаре. В 1762 г. вышел его роман «Грандисон второй или История господина Н. в письмах» — пародию на многочисленные произведения, написанные в духе сентиментального семейного романа «Сэр Чарльз Грандисон» английского писателя Самюэля Ричардсона. Сатира Музеуса имела успех в Европе. Создав ряд сатирических произведений, Музеус в последние годы жизни был целиком поглощен собиранием произведений народного творчества. Итогом этой работы и стало издание сборника сказок в его литературной обработке. Это его произведение принадлежит к сокровищам мировой литературы.
Сказки иллюстрированы гравюрами по дереву Р.Йордана, Г.Остервальда, Л.Рихтера, A.Шредтера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шейх Киамель и сам султан предоставили создателю европейского сада полную свободу действий, опасаясь как бы своим вмешательством или неосторожными расспросами, а также преждевременной критикой не помешать работе садового инженера и не спутать его замыслы. И, надо сказать, они поступили разумнее, чем наша просвещённая публика, ожидавшая, что уже через несколько лет после известного благотворительного посева желудей вырастут высокие дубы, из которых можно будет делать мачты, в то время как сеянцы были ещё так нежны и слабы, что одна холодная ночь могла их погубить. Но, когда миновали полтора десятилетия и пора было бы, пожалуй, созреть первым плодам, какому-нибудь немецкому Киамелю было бы уместно задать вопрос: «Что сделал ты, садовник? Покажи, какую пользу принесла твоя работа, сопровождаемая громким стуком колёс твоих тачек?» И, если бы деревца стояли там с такими же печально поникшими листьями, как в глейхеновском саду в Великом Каире, то справедливо оценив сделанное, он имел бы полное право молча, как шейх, покачать головой и, сплюнув сквозь зубы через бороду, сказать про себя: «Лучше бы всё оставалось по старому».
И вот однажды, когда садовник с удовлетворением осматривал своё новое творение и, оценивая его, пришёл к заключению, что в общем, всё вышло лучше, чем он предполагал, — а глядя на сад, мастер садовник видел его не таким, каким он был сейчас, но каким он станет, по его замыслу, в будущем, — к нему подошёл главный управитель, фаворит султана, и спросил:
— Что ты сделал, франк, и как продвигается твоя работа?
Граф понял, что его искусство должно подвергнуться строгой оценке, к чему, между прочим, уже давно приготовился. Сохраняя присутствие духа, глубоко уверенный в успехе дела своих рук, он сказал:
— Иди, господин, и посмотри. Прежняя дикая глушь покорилась моему искусству и преобразилась в уголок радости и веселья, подобный раю, каким не пренебрегли бы даже гурии. [254]
Слушая, как увлечённо и с каким удовлетворением рассказывает мнимый художник о произведении своего таланта, шейху ничего не оставалось, как поверить ему, ибо это, вероятно, был мастер садового дела, более сведущий в нём, чем он сам. Правда, устройство сада ему не понравилось, но он предпочёл об этом не говорить, чтобы не обнаружить собственное невежество, и, из скромности, приписал своё недовольство незнанию европейского вкуса. Так или иначе, но управитель решил оставить всё как есть. Однако, желая пополнить свои знания, он не удержался от искушения задать сатрапу-садовнику несколько вопросов, и тот незамедлительно на них ответил.
— А где же прекрасные садовые деревья, отягощённые красными персиками и сладкими лимонами, что стояли на этой песчаной равнине и услаждали взор гуляющих, приглашая их утолить жажду сочными плодами? — спросил шейх.
— Все они выкорчеваны из земли, чтобы нельзя было найти даже место, где они росли.
— Но почему?
— Разве подобает в декоративном саду султана иметь такое же множество плодовых деревьев, как в саду простого жителя Каира, готового загрузить ими целый обоз на продажу?
— А что заставило тебя уничтожить весёлые финиковые и тамариндовые рощи, — ведь они в знойную полуденную пору давали путнику тень и прохладу под сенью своих ветвей?
— Зачем тень в саду, который пуст и безлюден, пока солнце обжигает его огненными лучами. Только вечерний ветер навевает там прохладу и благоухание.
— Но разве эта роща не укрывала непроницаемым покровом тайную любовь султана, заворожённого прелестью рабыни-черкешенки, когда он хотел скрыть свою нежность от её ревнивых соперниц?
— Непроницаемым покровом, скрывающим тайны любви, будет та беседка, увитая жимолостью и плющом, или тот прохладный грот с мраморным бассейном, куда из искусственной скалы стекает кристальный ручеёк, или та крытая галерея, увитая виноградными лозами, или набитая мягким мхом софа в той камышовой деревенской хижине на берегу изобилующего рыбой пруда. Во всяком случае, в этом храме тайной любви султана не потревожит ни вредный гад, ни жужжание насекомого; ничто не задержит дуновения ветерка и не заслонит открытый вид. Разве может с этим сравниться тамариндовая роща?
— А зачем там, где раньше цвёл благоухающий кустарник из Мекки, ты посадил шалфей и иссоп, растущие обычно вдоль стен?
— Потому что султан хотел иметь не арабский, а европейский сад. Ведь в садах Италии и в немецких садах Нюрнберга нет ни фиников, ни ароматных растений Мекки.
Против таких аргументов возразить было нечего, так как ни шейх, ни кто-либо из язычников [255] Каира в Нюрнберге не был, и все объяснения о переустройстве сада из арабского в немецкий пришлось принять на веру. В одном только не мог убедить себя шейх, — что садовая реформа проведена по образу и подобию рая, обещанного пророком правоверным мусульманам. Если бы это было так, то будущая жизнь не сулила ему особого утешения. Но, как было сказано выше, управителю ничего не оставалось делать, как только в раздумьи покачать головой и, сплюнув сквозь зубы через бороду, уйти откуда пришёл.
Султаном Египта был в ту пору храбрый Мелик аль Азис Осман, сын знаменитого Саладина. [256] Прозвище «Храбрый» он заслужил скорее благодаря подвигам, одержанным в гареме, чем свойствам характера. В деле продолжения рода он был так деятелен и храбр, что, если бы все его наследники захотели одеть корону, то для них не хватило бы государств во всех трёх, известных тогда, частях света. [257] Но вот уже семнадцать лет, как одним жарким летом иссяк источник плодородия, и принцесса Мелексала завершила длинный ряд потомства султана. Она была, по единодушному признанию двора, ценнейшим сокровищем в этой большой гирлянде и пользовалась всеми преимуществами последнего ребёнка. Единственная оставшаяся в живых из всех дочерей, она от природы была наделена такой красотой, что восхищала даже взор отца. А надо признать, что восточные князья в оценке женской красоты далеко превзошли наших западных знатоков, которым нередко изменяет глаз.
Мелексала была гордостью семьи султана. Даже братья и те старались превзойти друг друга в усердии, с каким они предупреждали каждое желание прелестной сестры и доказать ей свою любовь и уважение. Высокий Диван [258] на политических совещаниях не раз обсуждал вопрос, с кем был бы выгоден для египетского государства брачный союз принцессы. Сам же султан, предоставив эту заботу Дивану, думал лишь о том, как угодить любимой дочери, чтобы она всегда была весела, и ни одно облачко не омрачило чистый горизонт её чела.
Первые годы детства девочка провела под наблюдением няни, христианки, родом из Италии. Эта рабыня в ранней молодости была похищена морским пиратом из родного города на побережье Италии и продана в Александрию. После этого, она не раз ещё переходила от одних хозяев к другим, пока наконец не попала во дворец султана Египта, где, благодаря отменному здоровью, заняла место кормилицы. Она честно исполняла свой долг и, хотя не была так музыкальна, как кормилица наследника французского трона, задававшая тон всему Версальскому хору, когда своим зычным голосом запевала Malborough s’en t-en guerre [259] зато природа наградила её бойким языком. Она знала историй и сказок не меньше, чем прекрасная Шехерезада из «Тысячи и одной ночи», и охотно развлекала ими домочадцев султана и пленниц сераля. Принцесса готова была слушать их не тысячу ночей, а по крайней мере, тысячу недель. Но когда девушка достигает возраста в тысячу недель, её перестают занимать чужие истории, — она находит в себе самой заветную волшебную нить, чтобы соткать из неё свою собственную сказку.
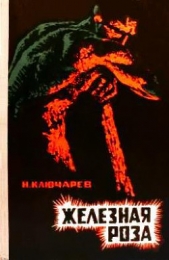


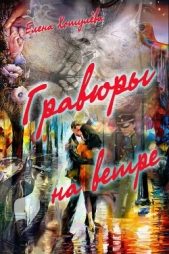

![[Книга Иудифи]](/uploads/posts/books/60468/60468.jpg)




















